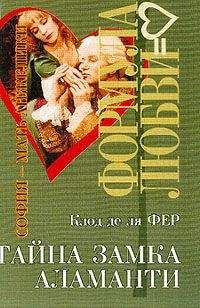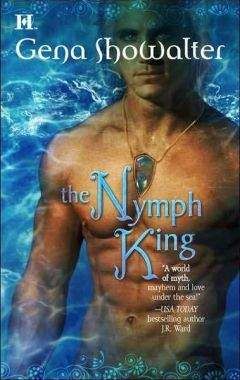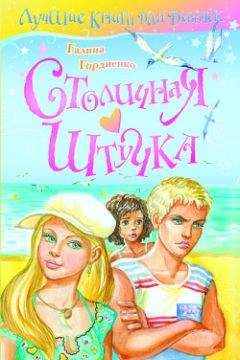— Ты хочешь меня сдать?
Он ласково улыбнулся, сел рядом на постель и, погладив меня по голове, прижал мое лицо к своим чреслам.
— Любовь моя! — простонал бенедиктинец.
5
1601 год от Рождества Христова.
Паж отпал от меня и старался отдышаться.
— Это было… великолепно!
Мне захотелось спросить: изменилась я внешне, так ли я выгляжу, как ощущаю себя теперь? Но это прозвучало бы бестактно. Поэтому положила руку ему на живот и ответила:
— Я рада.
Так мы лежали некоторое время, отдыхая и думая о своем, пока вдруг не заметила я, что плечи его дергаются.
— Что с тобой?
Тело мальчика забилось в рыданиях.
Я привалилась к пажу боком, погладила по плечу. Объяснений не требовалось. Он плакал о потере. То, что он испытал сегодня, могло быть прочувствованным им сорок лет назад, я могла бы принадлежать ему наяву, а не в волшебном Зазеркалье. Он плакал о своей утерянной жизни, о несбывшихся мечтах.
И я ничем не могла ему помочь…
Так мы и лежали. Немолодая женщина и отрок, любовники и в то же время вовсе не друзья — случай обычный в наш развратный век… если бы он не был при этом мертвецом, а я… Кем была я?
Сейчас, когда я вернулась из Зазеркалья, сижу в лаборатории за столом, пишу о пережитом, мне кажется очень важным понять: а кем же была я в мире за стеклом?
Может быть, я тоже умерла и дух мой совокуплялся с духом пажа — и оттого мы могли ощутить друг друга? Но я не раз видела, как привидения нашего замка проходили не только сквозь живых людей, но и сквозь друг друга.
А может это паж приобрел плоть?
Тогда куда делась та женщина, что была отображением моим в стекле и должна быть материальной в Зазеркалье? Она могла дать пажу то же самое, что дала ему я сама. Или мы с ней поменялись местами и, покуда я занималась любовью с покойным пажом, она хозяйничала в моем доме?
Но вернемся к пажу…
Отплакавшись, мальчик уснул. Лицо его было чисто и безмятежно, как у всякого юнца во сне. Я могла вторично убить его: задушить или заколоть ножом.
Сейчас мне кажется, что я зря не сделала этого. Было бы интересно пронаблюдать за смертью привидения.
Но в тот момент мысль эта только промелькнула и сразу пропала. Я любовалась лицом мальчугана, боясь потревожить его сон…
Как долго спал паж, я не скажу. Рука затекла — и я, выпростав ее из-под себя, случайно тронула его одежду. Бархат старого камзола был столь же нежен и мягок, как и тело моего воскресшего любовника. Мысль об этом сравнении так возбудила меня, что я, не думая о том, что делаю, стала расстегивать пуговицы на его груди.
Пушок мягких волос приятно щекотал ладонь.
Другой рукой я стала его раздевать. И делала это так долго и так осторожно, что не разбудила его, хотя громадный фаллос его от моих прикосновений разбух и дразнил своим восставшим видом, заставляя истекать соками так, что бедра мои стали липкими, а рот пересох.
Когда же паж оказался совсем голым и, продолжая спать, являл собой красавца времен античности, я разделась, наконец, и сама, обнаружив при этом, что дряхлеющие груди мои, еще недавно болтающиеся, как пустые кошельки, вдруг округлились, наполнились соком и встали торчком, как у нерожавшей девицы. Живот мой стал упруг, а ягодицы натянули кожу так, что та готова была лопнуть.
Осторожно тронув губами его губы, я заставила мальчика проснуться, распахнуть глаза. И, когда он открыл рот, чтобы сказать что-то, занесла ногу над его лицом, представив взору юноши распахнутый вход свой, чтобы осторожно опуститься ему на лицо.
6
Ну, скажите: не дура я? Обнаружить, что тело мое помолодело и наполнилось жаждой любви — и при этом забыть спросить пажа об этом! Не глянуть даже в зеркало на себя! Думать в такой момент лишь о том, что испытала за свою жизнь бесконечное число раз и что должно было давно уже наскучить!
Нет, воистину, если бес решит порезвиться человеком, он либо лишает его разума, либо наделяет сердце похотью…
То же самое случилось со мной и после смерти Леопольдо. Убив мужа, я незаметно выпрыгнула из медленно двигающейся в сторону замка де ля Мур кареты и пошла в сторону какой-то маленькой часовенки, в которой слабо светился огонек тоненькой свечки.
Нет, я не чувствовала страха, ничуть не жалела о содеянном, не бежала куда глаза глядят, как должно было бежать после содеянного, зная, что кучер, доехав до дворца, спрыгнет с козел, отопрет двери кареты, увидит мертвого хозяина, сразу поймет, кто сотворил ему смерть — и поднимет шум, наладит погоню. Я шла не спеша, поддерживая бока своего огромного, как колокол, платья, ступая своими маленькими туфельками по влажной земле осторожно, обходя лужи, держа направление строго на огонек свечи.
В маленькой, заставленной церковной утварью часовенке стоял на коленях перед иконой Девы Марии человек с выбритой тонзурой, в добротной сутане бернандинского монаха, статный, сильный, было видно, как играют мышцы его плеч. Камилавка валялась под подсвечником, на котором догорала маленькая полусольдовая свечка, какие обычно продают по пять штук нищим да прокаженным. Тихонько приблизившись к двери и встав за спиной монаха, я прислушалась…
Мужчина не молился по латыни, как должно говорить перед образом Матери Христовой, а говорил по-итальянски, чистым, звучным голосом проповедника, но такое, от чего у меня сердце так и вспрыгнуло не то от восторга, не то от удивления:
— … Помоги мне, Матерь Божья… Не могу совладать с собой. Как увидел эту Софию, так сна лишился. Мочи нет мне без нее… Не прошу у тебя сил на совладание со своей похотью, не желаю изводить себя голодовками и муками телесными… Одной Софией де ля Мур живу теперь. Помоги мне овладеть ей — и не будет более верного и истового слуги тебе… Ибо корень жизни мой не натружен вдоволь, а женщина сия для меня создана. Ты и сама знаешь это, Матерь Божья. А не знаешь — спроси у Сына своего. Уж он-то, должно быть, перепортил девок в Галилее своей по молодости. И уж потом в пустыню ушел, грехи там смыл, отмолил, свои и наши… Сведи меня с ней, Пресвятая, оставь наедине — а там о нас я и сам позабочусь…
Сжав с боков свое колокол-платье, я протиснулась в дверь часовни. Пламя свечи вспыхнуло, отразив меня в серебряных окладах икон.
— Господи! — воскликнул монах. — Неужто София?
Я молча подняла край своего платья и опустила ему за голову, спрятав всего монаха под колоколом.
Свеча вспыхнула в последний раз, и потухла…
Так я встретилась с Климентием, полюбившим меня, познавшим и спасшим от слуг папы и инквизиции.
Так что, думай я и поступай, как обычная итальянская дура, быть бы мне еще в тот год повешенной на любой из площадей Рима, которая бы понравилась моим преследователям и друзьям моего мужа.