— Кара-Кончар — ночная тень, догоняющая злодея, — продолжал туркмен. — Кара-Кончар — кинжал мести, копье гнева и меч расплаты. Сейчас Кара-Кончар один, нет у него ни сына, ни брата. Настанет день, когда он падет мертвым, и то место, где стоит его юрта, опустеет. Хорошо ли это?
— Это невесело, — сказал Джелаль эд-Дин.
— А раньше у Кара-Кончара были и седобородый отец, и смелые братья, и нежные сестры. Но когда шаху Мухаммеду нужна сотня коней, он едет с кипчакскими воинами в наши кочевья и берет вместо одной сотни коней — три сотни лучших жеребцов. А с женщин он снимает серебряные украшения, говоря, что делает это в наказание за то, что какие-то кочевники где-то ограбили надменного кипчакского хана. А когда у шаха имеется во дворе триста жен, он со своими кипчаками увозит нашу лучшую девушку Гюль-Джамал, из-за которой спорили сто джигитов, и насильно держит ее в своем дворце, называя триста первой женой. Хорошо ли это?
— Это тоже невесело, — сказал спокойно Джелаль эд-Дин. — Но то, что сто джигитов допустили увезти из кочевья лучшую девушку и не отбили ее — вот это нехорошо.
— Тогда в кочевье наших джигитов не было. Кипчаки хитры и выбирают время, когда к нам безопасно приезжать.
— Слушай мои слова, джигит, — сказал Джелаль эд-Дин. — Ты говоришь, что у тебя были отец, братья и сестры? Почему их больше нет?
— Белобородого отца схватили шахские палачи и на площади Гурганджа медленно разрубили на куски, начиная от ступней ног. Братья бежали на восток и на запад. Сестер схватили кипчакские всадники и увезли. Разве это хорошо?
— Это тоже нехорошо, — сказал Джелаль эд-Дин.
— Где же мне теперь скитаться под солнцем? Что же мне остается делать?
Джелаль эд-Дин заговорил горячо:
— Если светлая сабля в твоих руках сверкает для защиты родного племени, если, кроме забав на караванных дорогах, ты хочешь совершить подвиг и стать опорой нашего зеленого знамени, то приезжай ко мне в Гургандж, и я научу тебя, как создать славное имя.
— Слушай, бек-джигит, — ответил туркмен, с яростью утирая рукавом губы. — Когда я приеду в Гургандж, то по моим следам, как шакалы, побегут шпионы-«джазусы» шаха, но я им не сдамся и погибну в схватке. Нужно ли это?
— Этого не будет, — сказал Джелаль эд-Дин. — Когда ты подъедешь к Западным воротам Гурганджа, ты увидишь сад с высокими тополями. Спроси у привратников: «Это ли новый дворец и сад Тиллялы? Проведите меня к хозяину!» — и ты покажешь этот листок.
Джелаль эд-Дин достал из складок шафрановой чалмы листок бумаги, снял с большого пальца золотой перстень. Горящей веткой он закоптил печатку перстня и, помочив слюной уголок листка, приложил перстень. На бумаге копотью отпечаталось красивой вязью написанное имя. Свернув листок в трубочку, он сложил ее пополам, разгладил на колене и передал туркмену. Тот приложил листок к губам и ко лбу и спрятал в медной коробочке для трута, привешенной у пояса.
— Я верю твоему слову, бек-джигит, я приеду. Салям! — И туркмен исчез за дверной занавеской.
Хозяин молча последовал за ним. Перед юртой, где на костре кипел большой медный котел, на мокрой от тающего снега земле сидели пять истощенных рабов в истерзанных лохмотьях. Руки у всех были закручены за спину, шеи затянуты петлями, концы их привязаны к волосяному аркану. Рядом с рабами стоял рыжий высокий конь с серебряным ошейником на изогнутой шее, с туго притянутым к луке поводом. На луку был намотан конец аркана, державшего пленных.
Туркмен сел на коня.
— Вперед, скоты-иноверцы! Если не будете плестись, я вас изрублю и оставлю падалью на дороге.
Пятеро рабов поднялись и заковыляли один за другим, туркмен взмахнул плетью, и вскоре все скрылись за холмом. Хозяин вернулся в юрту.
— Почтенный гость, около сотни джигитов показались вдали и направляются сюда.
— Знаю, это джигиты хорезм-шаха ищут меня. А кто был человек, с которым я сейчас говорил?
— Это, — и хозяин продолжал шепотом, точно боясь, что туркмен вернется, — это барс Каракумов, гроза караванных путей, славный разбойник Кара-Кончар, да рассудит его Аллах!
Глава четвертая
ХАКИМ, ПРАВДИВО РЕШАЮЩИЙ
После остановки у кочевника Хаджи Рахим два дня шел узкой тропой через пустыню, направляясь на север к оазису в низовьях Джейхуна, [20]где находились города и селенья многолюдного Хорезма. Медленно плелся осел, и равномерно шагал за ним верблюд с больным купцом, все еще не приходившим в сознание. Дервиш распевал арабские и персидские песни и всматривался в даль, ожидая, когда же наконец появятся цветные купола мечетей Хорезма.
На третий день узкая тропа среди песчаных барханов обратилась в широкую дорогу и поднялась на каменистую возвышенность. Оттуда открылась цветущая, радостная равнина, покрытая садами, рощами и квадратами зеленеющих полей. Всюду между деревьями виднелись домики с плоскими крышами, группы черных, задымленных юрт и похожие на крепости с башенками по углам усадьбы богатых кипчакских ханов. Кое-где, точно копья, торчали острые минареты, и возле них переливались разноцветными изразцами купола мечетей. Как большие зеркала, сверкали квадраты пашен, залитые водой. По ним ходили полуголые, в отрепьях, люди с цепями на ногах.
Дервиш остановился на холме.
— Вот земля, созданная стать раем, — шептал он, — но она стала долиной мучений и слез. Пятнадцать лет назад я бежал отсюда, задыхаясь от страха, озираясь, как преступник. Кто сможет узнать теперь в обожженном солнцем черном дервише того юношу, которого проклял сам верховный имам? [21]Вперед, Бекир, скоро мы будем ночевать у ворот столицы всех столиц, богатейшего из всех городов мира — Гурганджа, где царствует хорезм-шах Мухаммед, самый могучий, но и самый зловещий из мусульманских владык…
Дервиш снова зашагал. По дороге стали чаще встречаться двухколесные повозки, запряженные крупными длиннорогими волами, пешие путники, нарядные всадники на разукрашенных конях и почерневшие на солнце поселяне на тощих ослах; отовсюду слышалось мычанье коров, блеянье овец, крики погонщиков.
В первом же селении дервиша окружили люди с длинными белыми палками.
— Ты что за человек? Если ты дервиш-бессребреник, то зачем тащишь за собой верблюда? Пойдем к хакиму, [22]он прочтет тебе твой смертный приговор.
Дервиша привели во двор, окруженный высокой глиняной стеной. На террасе, устланной широким ковром, сидел, скрестив ноги, тощий прямой старик в полосатом халате. Огромная белоснежная чалма, тщательно расчесанная седая борода, строгий, пронизывающий взгляд и медлительность движений вызывали трепет у всех, кто приближался к нему, и они падали ниц. Рядом, согнувшись, сидел молодой писарь с тростниковым пером в руке, ожидая приказаний.
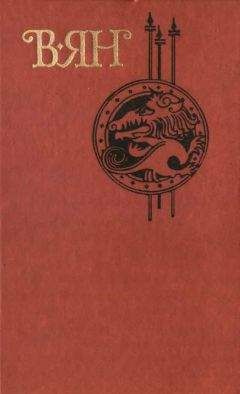
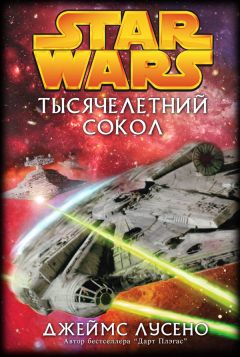
![Аллэин Флаер - Веревки и цепи. Часть первая - Веревки. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)


