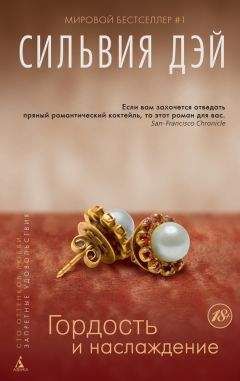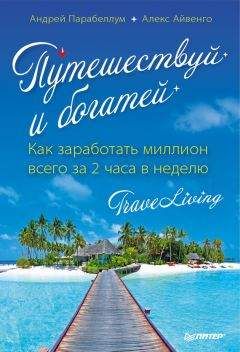Ознакомительная версия.
Смирение тотчас покинуло Ричарда, и его лицо приобрело совсем иное выражение: стало властным, решительным, полным достоинства. Теперь он даже с некоторой подозрительностью косился на лики святых, которыми пестрел каждый закоулок церкви, ибо привык к более сдержанному и строгому убранству храмов Западной Европы. Но здесь, на Сицилии, жили и славили Господа люди разных исповеданий — как чтившие Папу, так и те, кто признавал своим главой константинопольского патриарха; даже мусульмане имели на острове свои мечети.
Не просто было свыкнуться с таким смешением языков и религий, хотя король уже знал, что там, куда он направляется — в Святой земле, — будет так же. Что ж, молиться единому Господу можно по-разному…
Ричард сделал остановку на острове по пути в Палестину. Так было условлено давно: Сицилию предназначил для сбора кораблей крестоносной армады король Вильгельм II Добрый.[10] Когда мусульмане захватили Иерусалим,[11] Вильгельм первым велел нашить крест на свой плащ и начал готовить поход ради отвоевания у неверных Гроба Господня.
Но смерть внезапно настигла этого государя, а после него престолом Сицилии завладел племянник покойного, бастард его брата — Танкред Лечче. Мало того — новый правитель захватил и удерживал в плену вдову отошедшего в лучший мир короля Вильгельма, родную сестру Ричарда — Иоанну Английскую. И, судя по всему, вовсе не собирался возвращать ей свободу вместе с так называемой «вдовьей долей», составлявшей внушительную сумму золотом. Не было речи и о кораблях, которые обещал предоставить его предшественник крестоносному воинству.
Прибытие объединенных сил паладинов неожиданно породило конфликт с коренным населением острова. Против Ричарда выступили жители сицилийского города Мессина. Они выразили недовольство тем, что Ричард расположился в обители Сан-Сальваторе, устроив там склад провианта и оружия и потеснив, а фактически изгнав оттуда греческих монахов. Некогда покорившиеся норманнам сицилийцы видели в Ричарде нового завоевателя-северянина. Они отказывались торговать с крестоносцами, не желали предоставлять им жилье, а подчас и оскорбляли, не разумея, что воинство, выступившее против грозного султана Салах ад-Дина,[12] не может стерпеть наглых насмешек от «изнеженных греков», как крестоносцы презрительно называли сицилийцев.
В итоге произошло несколько стычек. Союзник Ричарда Филипп Французский попробовал урезонить островитян словом, Ричард также попытался уладить дело, но в своей манере: он врезался в толпу сошедшихся врукопашную мессинцев и своих людей, схватил с земли палку и принялся колотить ею по головам сражавшихся, не разбирая, кто перед ним — свой или чужой.
Но тут мессинцы необдуманно обстреляли крестоносцев из луков, и началось сущее побоище, в ходе которого король с горсткой своих приверженцев разогнал огромную толпу, пробился в город и водрузил на крепостной башне свой флаг.
Ричард действовал отважно и успешно — недаром в Европе он пользовался славой непревзойденного воителя. Однако Филипп Французский заявил, что не за тем они выступили в поход под знаком креста, чтобы сражаться с единоверцами.
С того дня напуганные жители Сицилии величали Ричарда не иначе как Львом, тогда как Филиппа они окрестили Ангелом. И Ангел сумел-таки уговорами и хитростью уладить возникшие противоречия. Больше того — король Танкред безропотно вернул Ричарду его сестру Иоанну вместе с ее «вдовьей долей» и даже предоставил ему — обойдя при этом Филиппа — обещанные прежним монархом снаряженные для дальнего похода суда.
Но когда все было улажено, не кто иной как Филипп Французский внезапно счел себя оскорбленным и обойденным и потребовал у короля Англии половину полученного им на Сицилии.
Так или иначе, но крестоносцы благополучно перезимовали на Сицилии, переждали время штормов и даже провели у стен Палермо в дни Рождества Христова великолепный турнир. Король Танкред теперь всячески выказывал свое расположение Ричарду, оставаясь холодно вежливым с Филиппом, что приводило в ярость последнего.
Весна была в разгаре, пора было отправляться в Святую землю. Но Ричард медлил в ожидании прибытия своей матери — Элеоноры Аквитанской. Ему донесли, что она уже в Калабрии[13] и отплывает на Сицилию со дня на день.
Короля грызло нетерпение: на этом недружелюбном острове он не мог проявить себя во всем блеске. Изо дня в день ему приходилось изворачиваться, изыскивать окольные пути, вести дипломатические переговоры. В нем жила душа прирожденного воина, он рвался в битву, и там ему не было равных. Однако судьба сделала его правителем огромной Анжуйской державы,[14] что налагало определенные обязательства…
Погруженный в эти мысли, Ричард вышел на галерею монастырской церкви.
Издали приглушенно доносилось пение монахов, отправлявших службу в уединенной часовне, чтобы не помешать молитвенному сосредоточению английского Льва. То была не литания, напев звучал иначе, но он не мог разобрать, тем более что время от времени пение заглушали возгласы часовых, обходивших монастырскую стену, и гомон оруженосцев, собравшихся у коновязи. Внезапно все эти отдаленные и неясные звуки прорезал негромкий властный голос. Короля окликали по имени:
— Ричард!
Она стояла под сводом арки в конце галереи. Ричард видел ее белое покрывало, пышную мантию, горностаевую муфту, в которую она прятала свои постоянно мерзнущие руки. С возрастом королева Элеонора стала зябкой, и даже тепло южной весны не могло согреть ее старческие пальцы.
— Матушка! — выдохнул английский король и порывисто шагнул к ней.
Королева Элеонора в свои семьдесят выглядела величественно. Годы не согнули ее: спина прямая, как древко копья, голова горделиво откинута. Присущая ей в молодые годы стройность сменилась худобой, но королева умело драпировала ее роскошным тяжелым одеянием. Шелковое покрывало скрывало седину в волосах, тончайшая барбетта[15] прятала морщины на шее и подбородок до жестких, почти утративших цвет губ, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица. Но линия ее бровей была по-прежнему горделивой и отчетливой, нос — прямым и тонким, а во взгляде бледно-зеленых глаз светилась сила, с которой не смогли справиться целые десятилетия, полные невзгод. Перед Ричардом была королева до кончиков ногтей, и он молча опустился перед нею на колено и коснулся губами края ее одеяния.
— Для меня величайшее счастье видеть вас здесь, ваше величество!
Элеонора смотрела на сына. Она произвела на свет десятерых детей, но подлинно материнские чувства испытывала только к нему. Не потому ли, что провела с ним больше времени, чем с другими? Тех она, едва успев оправиться, передавала кормилицам и нянькам, сама же вновь погружалась в дела государства. Или оттого, что рано убедилась в выдающихся дарованиях Ричарда? Скорее всего, он больше других напоминал ей ее самое в молодости — такой же порывистый, с горячим сердцем, жадно любивший жизнь и стремившийся перекроить ее по собственному разумению.
Ознакомительная версия.