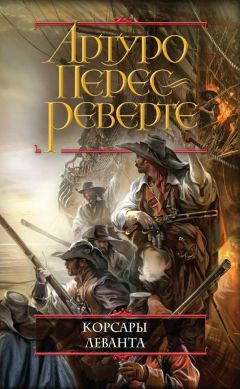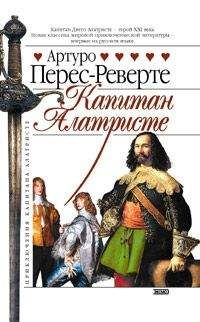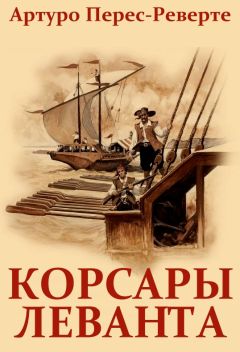Он выругался про себя, сплюнул с досады. Гуадальмедина, которого он не видел с достопамятной охоты в окрестностях Эскориала, не выходил у него почему-то из головы, а заодно лежал камнем на сердце. Капитан, силясь избавиться от неприятного воспоминания, заставил себя думать о другом. В самом деле — какого черта? Он — в Неаполе! Вокруг — все великолепие Италии, сам он здоров, и в кармане еще побрякивают кружочки с августейшим профилем. У него — отличные товарищи, не говоря уж про Себастьяна Копонса — как хорошо все же, что удалось выцарапать его из Орана! — мастера пожрать и не дураки выпить, мужики в полном смысле слова, готовые и последним поделиться, и спину тебе прикрыть. И той же породы самый давний его друг, Алонсо де Контрерас — еще бы: с ним вместе по четырнадцатому-то году они записались пажами-барабанщиками в полк, отправлявшийся во Фландрию. Алатристе и Контрерас встретились в Италии десять лет спустя, потом в Мадриде и вот теперь — снова в Неаполе. Бравый дон Алонсо нисколько не изменился — все так же отважен, речист и немного фанфарон, но это — лишь по первому впечатлению, которое не только обманчиво, но и чрезвычайно опасно для тех, кто, поддавшись ему, не захочет вникнуть в суть. Он вышел в капитаны, прославился — после того, как Лопе де Вега вывел его в комедии «Король без королевства» — и, плавая на мальтийских галерах вдоль побережья Эгейского моря, на Морею наведываясь, богатства себе не стяжал, но жил широко. Герцог де Альбукерке, вице-король Сицилии, не так давно дал ему под начало гарнизон Пантеларии — есть такой островок на полпути в Тунис — и даже выделил фрегатишко, чтоб, если совсем тоска заест, можно было малость покорсарствовать. По словам самого Алонсо, не бог весть что, но все же должность приятная, надежная и оплачиваемая.
…Алатристе берегом шел дальше. Не доходя до твердынь Пиццофальконе, свернул, поднялся по откосу. И через арку всю ночь открытых ворот вступил, удвоив бдительность, на улицы города. На углу внимание его привлекла освещенная таверна. Изнутри слышались гитарный перебор, мужские и женские голоса, обрывки слов по-испански и по-итальянски, смех. Захотелось завернуть туда, принять стакана два, но капитан поборол искушение. Было уже очень поздно, к тому же он устал, а до так называемого Испанского квартала, где они с Иньиго разместились, идти еще порядочно. Да и потом: за жизнь свою он уже и так выпил немало, гася жажду — да и не ее одну, видит Бог! — напиваться же взял себе за правило лишь в те дни и ночи, когда демоны устраивали в душе и в памяти свои игрища, а сегодня такого не было. Свежие воспоминания наводили все же на мысли о райских усладах, нежели об адских муках. Алатристе усмехнулся этой мысли и, проведя пальцами по усам, ощутил, что они будто впитали в себя запах женщины, дом которой он недавно оставил. Как хорошо, мелькнуло у него в голове, быть живым и снова оказаться в Неаполе.
— Non e vero[18], — сказал итальянец.
Мы с Хайме Корреасом переглянулись. Счастье еще, что оружие полагалось оставлять при входе в игорный дом, а иначе немедленно бы обнажили шпаги по адресу наглеца. Нужды нет, что у итальянцев эти слова вовсе не считаются оскорблением, ни один испанец безнаказанно такое не оставит. А этот игрок прекрасно знал, кто мы и откуда.
— Нет, сударь. Это вы врете.
И с этими словами я, оскорбленный тем, что мне осмелились сказать такое, поднялся и ухватил со стола кувшин с намерением разбить его — вот только дернись! — о голову собеседника. Корреас последовал моему примеру, и так вот стояли мы с ним бок о бок, глядя: я — на шулера, Хайме — на тех восьмерых-десятерых молодцев самого гнусного вида, что играли за нашим столом. Как я уже упоминал выше, мы в такого рода заведениях были не впервые, ибо Корреас ни устали, ни удержу в игре не ведал и мог предаваться сему пороку с утра до вечера. Давний мой товарищ пустился во все тяжкие после того, как нелегкая — извините за каламбур — занесла его еще в нежном возрасте, пажом-мочилеро во Фландрию, а ныне сделался прожженным плутом, отъявленным потаскуном и неисправимым кутилой, завсегдатаем злачных мест, одним из тех пропалых ребят, которые, привыкнув брать от жизни все, не задумываются, что когда-нибудь и отдавать придется, отчего обычно и получают либо нож под ребро, либо почетное право галерным веслом шугать сардинок, либо и вовсе подсудобливают себе на шею в три витка веревочку, которой, известное дело, как ни вейся, а конец будет. А я? Что ж я? И чего другого вы, господа, ожидали бы от меня — ровесника его и друга и уж совсем не мужа праведной жизни? Так что мы с ним на пару новоявленными Аяксами бродили, ухарски заломив шляпы да шпагами звеня, по Италии, которой владели, о которой радели с тех, теперь уже давних пор, как арагонские государи завоевали Сицилию, Корсику и Неаполь, и сперва рати Великого Капитана [19], а потом полки императора Карла намылили здесь французам холку. К вящей досаде римских пап, венецианцев, савойцев, ну и так надо понимать, что и самого врага рода человеческого тоже.
— Врете и притом мухлюете, — припечатал Корреас, отрезая пути к отступлению.
Последовало молчание из разряда тех, что обещают много, но ничего хорошего, однако, не сулят, а я наметанным солдатским глазом оценил положение и остался им крайне недоволен. Партнер наш, по виду судя, продувная бестия, пройдоха и шельма, был, скорее всего, флорентинец, а прочие — неаполитанцы, сицилийцы или уж не знаю, где их мамаша родила, а наших в поле зрения не оказалось ни одного. Помимо всего прочего, место, где это дело происходило — подвал с закопченным потолком, — помещалось на площади Ольмо: рядышком имелся фонтан, а вот до испанских казарм было довольно далеко. Утешаться оставалось тем лишь, что на первый взгляд противники наши были так же безоружны, как и мы с Хайме, хотя нельзя было исключать, что в нужный момент в руке у кого-нибудь, откуда ни возьмись вынырнув, блеснет ножичек. Я про себя проклял своего товарища, который оттого и вверг нас обоих в такую вот мухоловку, что в безмозглую башку ему в очередной раз втемяшилось выбрать для утоления картежной страсти такой гнусный притон, как этот. Да, в очередной раз, не в первый, но очень похоже, что в последний.
Итальянец меж тем сохранял спокойствие. Ему ли, бакалавру крапа и лиценциату мухлежа, было тревожиться из-за таких недоразумений, неотъемлемо присущих благородному ремеслу шулера? Наружность его, доверия не внушая, была под стать поведению: плешь он прикрывал скверно сделанной накладкой, был тощ и мосласт, на пальцах сверкали массивные перстни, и торчком, как два свясла, стояли у самых глаз нафабренные усы. Совсем был бы персонаж какого-нибудь фарса, если бы не взгляд — цепкий и опасный. Жуликовато бегая глазами, до ушей раздвинув губы улыбкой, что смотрелась фальшивее, чем гасконец на богомолье, он быстро переглянулся со своими присными, а затем указал на карты, разбросанные по грязному столу, залитому вином и заляпанному белесыми кляксами свечного воска.