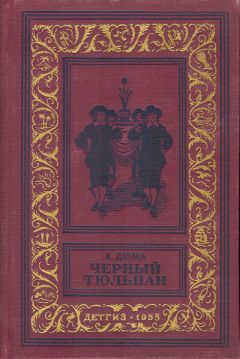Это расцветала любовь, заставляя цвести всё кругом; любовь — небесный цветок, еще более сияющий, более ароматный, чем все земные цветы.
Когда Грифус вошел в комнату заключенного, то вместо того чтобы найти его, как в прошлые дни, угрюмо лежащим в постели, он застал его уже на ногах и напевающим какую-то оперную арию.
Грифус посмотрел на него исподлобья.
— Ну, что, — заметил Корнелиус, — как мы поживаем?
Грифус косо посмотрел на него.
— Ну, как поживают собака, господин Якоб и красавица Роза?
Грифус заскрежетал зубами.
— Вот ваш завтрак, — сказал он.
— Спасибо, друг Цербер, — сказал заключенный: — Он прибыл как раз вовремя, — я очень голоден.
— А, вы голодны?
— А почему бы и нет? — спросил ван Берле.
— Заговор как будто подвигается, — сказал Грифус.
— Какой заговор? — спросил Корнелиус.
— Ладно, мы знаем, в чем дело. Но мы будем следить, господин ученый, мы будем следить, будьте спокойны.
— Следите, дружище Грифус, следите, — сказал ван Берле, — мой заговор так же, как и моя персона, всецело к вашим услугам.
— Ничего, в полдень мы это выясним. Грифус ушел.
— “В полдень”, — повторил Корнелиус, — что он этим хотел сказать? Ну что же, подождем полудня; в полдень увидим.
Корнелиусу не трудно было дождаться полудня, — ведь он ждал девяти часов вечера.
Пробило двенадцать часов дня, и на лестнице послышались не только шаги Грифуса, но также и шаги трех — четырех солдат, поднимавшихся с ним.
Дверь раскрылась, вошел Грифус, пропустил людей в камеру и запер за ними дверь.
— Вот теперь начинайте обыск.
Они искали в карманах Корнелиуса, искали между камзолом и жилетом, между жилетом и рубашкой, между рубашкой и его телом, — ничего не нашли.
Искали в простынях, искали в тюфяке, — ничего не нашли.
Корнелиус был очень рад, что не согласился в свое время оставить у себя третью луковичку. Как бы она ни была хорошо спрятана, Грифус при этом обыске, без сомнения, нашел бы ее и поступил бы с ней так же, как и с первой. Впрочем, никогда еще ни один заключенный не присутствовал с более спокойным видом при обыске своего помещения.
Грифус ушел с карандашом и тремя или четырьмя листками бумаги, которые Роза дала Корнелиусу. Это были его единственные трофеи.
В шесть часов Грифус вернулся, но уже один. Корнелиус хотел смягчить его, но Грифус заворчал, оскалив клык, который торчал у него в углу рта, и, пятясь, словно боясь, что на него нападут, вышел.
Корнелиус рассмеялся.
Грифус крикнул ему сквозь решетку:
— Ладно, ладно, смеется тот, кто смеется последним.
Последним должен был смеяться, по крайней мере, сегодня вечером, Корнелиус, так как ждал Розу.
В девять часов пришла Роза, но Роза пришла на этот раз без фонаря. Розе больше не нужен был фонарь: она уже умела читать.
К тому же фонарь мог выдать Розу, за которой Якоб шпионил больше, чем когда-либо. Кроме того, свет выдавал на лице Розы краску, когда она краснела.
О чем говорили молодые люди в этот вечер? О вещах, о которых говорят во Франции на пороге дома, в Испании — с двух соседних балконов, на востоке — с крыши дома. Они говорили о вещах, которые окрыляют бег часов, которые сокращают полет времени. Они говорили обо всем, за исключением черного тюльпана. В десять часов, как обычно, они расстались.
Корнелиус был счастлив, так счастлив, как только может быть счастлив цветовод, которому ничего не сказали о его тюльпане. Он находил Розу прекрасной, он находил ее милой, стройной, очаровательной.
Но почему Роза запрещала ему говорить о черном тюльпане?
Это был большой недостаток Розы.
И Корнелиус сказал себе, вздыхая, что женщина — существо несовершенное.
Часть ночи он размышлял об этом несовершенстве. Это значит, что всё время, пока он бодрствовал, он думал о Розе.
А когда он уснул, он грезил о ней.
Но в его грезах Роза была куда совершеннее, чем Роза наяву; эта Роза не только говорила о тюльпане, но она даже принесла Корнелиусу чудесный черный тюльпан, распустившийся в китайской вазе.
Корнелиус проснулся, весь трепеща от радости и бормоча:
— Роза, Роза, люблю тебя.
И так как было уже светло, он считал лишним засыпать. И весь день он не расставался с мыслями, с которыми проснулся.
Ах, если бы только Роза разговаривала о тюльпане, Корнелиус предпочел бы Розу и Семирамиде, и Клеопатре, и королеве Елизавете, и королеве Анне Австрийской[57], то есть самым великим и самым прекрасным королевам мира. Но Роза запретила говорить о тюльпане под угрозой прекратить свои посещения. Роза запретила упоминать о тюльпане раньше чем через три дня.
Правда, это были семьдесят два часа, подаренные возлюбленному, но это были в то же время и семьдесят два часа, отнятые у цветовода. Правда, из этих семидесяти двух часов — тридцать шесть уже прошли. Остальные тридцать шесть часов так же быстро пройдут, — восемнадцать — на ожидание, восемнадцать — на воспоминания.
Роза пришла в то же самое время. Корнелиус и в этот раз героически вынес положенное ею испытание.
Впрочем, прекрасная посетительница отлично понимала, что, выставляя известные требования, надо в свою очередь идти на уступки. Роза позволяла Корнелиусу касаться ее пальцев сквозь решетку окошечка. Роза позволяла ему целовать сквозь решетку ее волосы. Бедный ребенок, все эти ласки были для нее куда опасней разговора о черном тюльпане!
Она поняла это, придя к себе с бьющимся сердцем, пылающим лицом, сухими губами и влажными глазами.
На другой день, после первых же приветствий, после первых же ласк, она посмотрела сквозь решетку на Корнелиуса таким взглядом, который хотя и не был виден впотьмах, но который можно было почувствовать.
— Знаете, — сказала она, — он пророс.
— Пророс? кто? что? — спросил Корнелиус, не осмеливаясь поверить, что она по собственной воле уменьшила срок испытания.
— Тюльпан, — сказала Роза.
— Как так? Вы, значит, разрешаете?
— Да, разрешаю, — сказала Роза тоном матери, которая разрешает какую-нибудь забаву своему ребенку.
— Ах, Роза! — воскликнул Корнелиус, вытягивая к решетке свои губы, в надежде прикоснуться к щеке, к руке, ко лбу, к чему-нибудь.
И он коснулся полуоткрытых губ. Роза тихо вскрикнула.
Корнелиус понял, что нужно торопиться, что этот неожиданный поцелуй взволновал Розу.
— А как он пророс? Ровно?
— Ровно, как фрисландское веретено, — сказала Роза.
— И он уже высокий?
— В нем, по крайней мере, два дюйма[58] высоты.