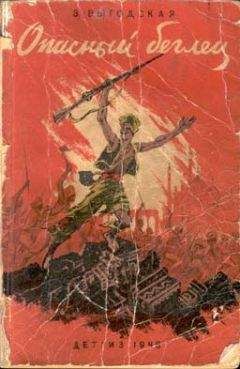— Нет, — сказал он. — Я не хочу быть неблагодарным!
— Вы обещали меня позабавить, — смеясь, припомнила она, — но позабавила вас я! — Да, бурная у нас с вами вышла сцена!
Теперь засмеялся и он; но звук и ее и его смеха едва ли мог быть назван успокоительным.
— Теперь скажите мне, что вы дадите мне взамен за мою превосходную декламацию и силу убеждений? — спросила фон Розен.
— Все, что вы пожелаете! — ответил он.
— Все! Чего бы я не пожелала? Вы мне ручаетесь в том вашею честью?.. Ну, предположим, что я потребовала бы корону? — И она обдала его при этом огненным взглядом, горевшим радостью и торжеством.
— Ручаюсь своей честью, — повторил Отто.
— Что же, потребовать у вас корону? — спросила фон Розен. — Нет! Что бы я стала с нею делать? Грюневальд такое крошечное государство, мое честолюбие метит гораздо выше. Я спрошу у вас… — а впрочем, я вижу, что мне решительно ничего не нужно. Нет, лучше я сама дам вам нечто, — я дам вам позволение поцеловать меня один раз, не больше.
Отто приблизился к ней, и она подняла к нему свое лицо. Оба они блаженно улыбались, оба готовы были рассмеяться как дети. Все это было так невинно, так шаловливо и игриво, и принц был положительно ошеломлен тем страшным потрясением, какое испытало все его существо в тот момент, когда губы их встретились. Одна секунда — и тот и другой отодвинулись подальше друг от друга — и некоторое время ни тот ни другой не вымолвил ни слова. Но Отто смутно сознавал, что в этом безмолвии, в этом молчании кроется опасность; но он не находил слов, он не знал, что сказать. Наконец графиня как будто пробудилась от сна и сказала:
— А что касается вашей жены… — и при этом голос ее звучал так чисто, так спокойно.
Эти слова заставили Отто очнуться. Он вздрогнул и пришел в себя.
— Я не хочу ничего слышать о моей жене, ничего неодобрительного! — крикнул он несколько резко, но тотчас же овладел собой и добавил более мягко и почти ласково: — Я скажу вам, мой друг, мою единственную тайну: я люблю мою жену.
— Вам следовало дать мне докончить начатую иной фразу, — сказала, улыбаясь, фон Розен. — Неужели вы думаете, что я без умысла упомянула ее имя? Я видела, что вы потеряли голову, — и я тоже! Но теперь не позволяйте словам приводить вас в смущение и замешательство. Ведь слова — это мое единственное достояние, мое оружие, мой щит, мой меч! И если вы не слепой безумец, то вы увидите и вскоре убедитесь, что я своими руками возвожу крепости для зашиты вашей добродетели! Во всяком случае, я желаю дать вам понять, что я не умираю от любви к вам. Для меня любовь, это приятное, улыбающееся мне занятие, но отнюдь не драма и не трагедия! Ну, а теперь дослушайте, что я хотела сказать вам о вашей жене: — она не есть и никогда не была любовницей Гондремарка; можете быть в этом вполне уверены, потому что если бы это было, он, наверное, стал бы похваляться этим, я его знаю! — Покойной ночи, принц!
И в одно мгновение она скрылась в узкой тайной аллее, а Отто остался один с мешком денег и собирающимся взлететь мраморным божком.
X. Пересмотренное мнение Готтхольда и полное падение
Графиня покинула принца, подарив его лаской и пощечиной одновременно. Желанное слово, сказанное о его жене, и добродетельная развязка этого свидания, вероятно привели бы его в восхищение. Но тем не менее, в тот момент, когда он поднял мешок с деньгами и направился к тому месту, где его ожидал грум, он ощущал какое-то чувство неловкости, сознавая, что многие чувствительные места его совести были болезненно задеты. Сбиться с надлежащего пути и затем быть направленным на истинный путь является для человеческого и особенно для мужского самолюбия, так сказать, двойным испытанием. То, что он сам убедился в своей слабости и возможной неверности, потрясло его до глубины души; и в этот самый момент слышать о верности жены, несмотря на все искушения и соблазны, окружающие ее со всех сторон, — слышать об этом от женщины, которая не любила ее, — было так горько и так тяжело, что он едва мог вынести этот удар.
Он успел уже пройти половину пути от Летящего Меркурия к фонтану, где его ждал грум. Тогда мысли его начали несколько проясняться, и при этом он был чрезвычайно удивлен, убедившись, что в его душе говорит сейчас какое-то злобное чувство. Он остановился, как бы досадуя на что-то, и с сердцем ударил рукой по маленькому кустику на краю аллеи. Из куста разом вылетела при этом целая стая вспугнутых от сна воробьев, которые мгновенно рассыпались и разлетелись во все стороны и исчезли в густой чаще сада. Принц бессмысленно смотрел им вслед, и, когда все они разлетелись, уставился так же бессмысленно на далекие звезды.
— Я зол, — подумал он, — но по какому праву? На каком основании? — спрашивал он себя и тут же отвечал: без всякого права и без всякого основания! Но тем не менее он все-таки был зол на всех и на все. Он проклинал в душе и фон Розен, но в тот же момент раскаивался и упрекал себя в неблагодарности и несправедливости. Мешок с деньгами казался ему ужасно тяжел, он, положительно, оттягивал ему руку.
Когда он наконец дошел до фонтана, то, частично от досады и частично из фанфаронства, он сделал непростительную неосторожность. Он отдал мешок с деньгами смело и открыто вороватому груму.
— Сохрани эти деньги у себя для меня. Завтра я зайду к тебе за ними; здесь очень большая сумма, — добавил он, — но я доверяю ее тебе и из этого ты видишь, что я не осудил тебя бесповоротно.
И он самодовольно удалился, как будто совершил какой-нибудь великодушный поступок. Надо сказать, что это было дело далеко не легкое; это было отчаянная попытка ворваться снова в неприступную крепость самоуважения, и, как почти все такие отчаянные попытки, — она оказалась бесплодной в результате. Он вернулся к себе и лег в постель, но до самого рассвета беспокойно ворочался и метался из стороны в сторону, а затем, когда уже начало светать, совершенно неожиданно для себя заснул тяжелым, свинцовым сном, а когда проснулся, то было уже десять часов утра. Пропустить условное время, не явиться на назначенное им самим свидание со стариком Киллианом Готтесхеймом после всего того, что было сделано ради этого, было бы слишком ужасно; и он стал торопиться что было мочи. Он разыскал грума, который по чудесной случайности оказался верным человеком на этот раз, вскочил на коня, и всего за несколько минут до полудня вошел в комнату для посетителей в скромной гостинице «Утренняя Звезда».
Киллиан Готтесхейм был уже здесь, в своем воскресном наряде, в котором он смотрелся еще сухощавее и сухопарее, чем в домашнем платье; над разложенными на столе документами и бумагами, как часовой на часах, стоял нотариус из Бранденау; а хозяин гостиницы и его слуга должны были служить свидетелями при совершении купчей и уплаты денег за ферму. Чрезвычайная почтительность, с какой этот важный барин — хозяин гостиницы — относился к Отто, произвела на старика крестьянина несомненное впечатление, и даже удивляла его, но только когда Отто взял перо и поставил свою подпись на бумаге, у старика вдруг раскрылись глаза, и он понял всю правду.