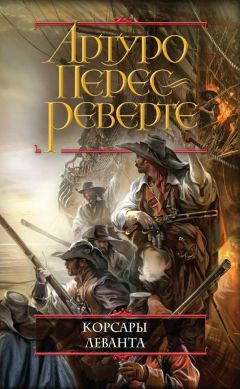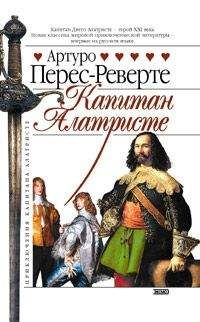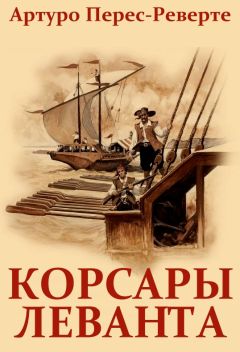Из этих слов Вы можете заключить, будто я думаю, что по-прежнему Вас люблю. Однако не советую Вам пребывать в уверенности относительно этого, как, впрочем, вообще чего бы то ни было. Убедиться в этом Вы сможете лишь, когда мы окажемся лицом к лицу и взглянем друг другу в глаза. А до тех пор постарайтесь остаться живым, целым и невредимым. У меня на Вас, как Вы помните, большие виды.
Желаю Вам удачи, сеньор солдат. Надеюсь, что на борт первой же турецкой галеры Вы спрыгнете с моим именем на устах. Мне будет приятно оказаться на устах храбреца.
Ваша —
Анхелика де Алькесар.
Поколебавшись мгновение, не больше, я вышел на улицу. И обнаружил, что капитан, расстегнув колет, сложив на скамейку шляпу, шпагу и кинжал, сидит у дверей нашего постоялого двора и наблюдает за прохожими. Письмо было у меня в руке, я с гордостью протянул его Алатристе, но он взглянуть не пожелал, а лишь сказал:
— Фамилия Алькесар навлекает на нас беды.
— Анхелика — это мое дело.
Он снова с отсутствующим видом качнул головой, думая, казалось, о чем-то своем. Глаза его были устремлены на перекресток — наша остерия помещалась на углу Трес-Рейес и Сан-Матео, — где несколько мулов, привязанных к кольцам в стене, успели уже щедро унавозить землю возле двух полуподвальных лавчонок: одна торговала углем каменным, древесным и щепками для растопки, другая была завалена связками и заставлена рядами сальных свечей. Солнце стояло в зените, и, роняя нам на головы капли, белье на протянутых из окна в окно веревках качалось под ветром, постоянно чередуя прямоугольные пятна света и тени на земле.
— В подвалах инквизиции и на борту «Никлаасбергена» дело это было не только твое… — Алатристе говорил так, словно размышлял вслух, а не отвечал мне. — И в Эскориале — тоже… Я имею в виду наших друзей. Люди погибали.
— Анхелика тут ни при чем. Ее использовали втемную.
Он медленно повернул ко мне голову и долго смотрел на письмо, по-прежнему зажатое у меня в руке. Смутясь, я опустил глаза. Потом сложил лист вдвое, спрятал его в карман. Крошки сломанного сургуча, забившиеся мне под ногти, были похожи на запекшуюся кровь.
— Я люблю ее.
— Это я уже слышал. В Бреде. Тогда ты тоже получил похожее письмецо.
— Сейчас я люблю ее сильнее.
Капитан снова замолчал — и надолго. Я привалился плечом к стене. Мы созерцали прохожих — солдат, женщин, слуг, уличных торговцев. Весь этот квартал, строившийся с конца прошлого века попечением вице-короля дона Педро де Толедо, давал приют не менее чем трем тысячам испанских солдат из Неаполитанской бригады, ибо казармы могли вместить лишь малую их толику. Прочие же, как и мы с капитаном, селились здесь. Прямоугольный и при всей однородности своей весьма пестрый квартал был, может, и неказист, да удобен: присутственных мест здесь не было, зато на каждом шагу оказывалась если не гостиница, так остерия, не остерия, так постоялый двор, да и в четырех-пятиэтажных домах, занимавших все пространство, сдавались комнаты в аренду. Так что был это один неимоверных размеров военный лагерь, вписанный в городскую черту и заселенный солдатами, постоянно или временно дислоцированными в Неаполе, которые брали в жены местных или прибывших из Испании, заводили с ними детей и мирно соседствовали с местными жителями, а те сдавали нам жилье внаймы, кормили и поили и, прямо скажем, существовали на те деньги — весьма немалые, замечу, — что тратило наше доблестное воинство. И в этот день, как и во всякий другой, над нашими с капитаном головами перекрикивались из окна в окно женщины, и в домах, перемежаясь неаполитанским диалектом, громко звучала испанская речь со всем разнообразием выговоров, какие только есть в нашей отчизне. На обоих языках верещали и оборванные детишки, чуть выше по улице со сладострастием мучившие собаку: они привязали ей к хвосту разбитый кувшин и теперь палками гнали несчастную тварь по мостовой.
— Есть женщины…
Капитан начал и вдруг осекся и нахмурил лоб, словно позабыл, что хотел сказать. Меня же, неизвестно почему, обуяла досада. Двенадцать лет назад вот здесь же, в Испанском квартале, когда вино переполняло желудок, а ярость — душу, мой бывший хозяин убил лучшего друга и полоснул свою возлюбленную кинжалом по лицу.
— Не думаю, ваша милость, что вы вправе давать мне наставления насчет женщин, — сказал я несколько громче, нежели следовало бы. — Тем более здесь, в Неаполе.
Что ж, я знал, с кем имею дело. Ледяная молния, вспыхнувшая в зеленовато-прозрачных глазах, другого бы, может, и напугала, но только не меня. Не он ли сам научил меня не бояться никого и ничего?
— Да и в Мадриде тоже… где бедная Каридад плачет, покуда Мария де Кастро…
Теперь уже я оборвал фразу на середине, ибо капитан медленно поднялся и очень пристально взглянул на меня в упор этими своими заиндевелыми глазами, так похожими на фламандские каналы зимой. Я, хоть и выдержал его взгляд, невольно сглотнул слюну, заметив, как Алатристе двумя пальцами проводит по усам.
— Хватит, — сказал он.
И обратил задумчивый взор к сложенным на табурете шпаге с кинжалом.
— Себастьян, видно, был прав, — промолвил он чуть погодя. — Ты и в самом деле подрос. Даже слишком.
Он сгреб оружие, неторопливо опоясался ремнем с портупеей, на которой оно висело. Тысячу раз я видел, как он это делает, но сейчас почему-то от этого негромкого лязга мороз прошел у меня по коже. Алатристе все так же молча взял свою широкополую шляпу, низко надвинул ее, и лицо сразу оказалось в тени.
— Ты стал совсем мужчиной, — прибавил он наконец. — Можешь и голос повысить, а значит — и убить. Но, следовательно, и сам можешь быть убит… Постарайся помнить это, когда в следующий раз вздумаешь беседовать со мной о некоторых предметах.
Он глядел все так же — очень холодно и очень пристально. Так, словно видел меня впервые. Вот тогда мне и стало страшно.
Развешанное поперек узких улочек белье в темноте казалось развевающимися саванами. Диего Алатристе, оставив позади перекресток широкой, мощеной и освещенной плошками Виа-Толедо, углубился в Испанский квартал, чьи прямые улицы поднимались в полумраке по склону Сант-Эльмо. Впереди, озаренный свечением Везувия — красновато-зыбким, приглушенным расстоянием, — угадывался и сам замок. Вулкан, который в последние дни зевал да потягивался, сейчас снова задремал — лишь один маленький столб дыма венчал его кратер, и чуть заметно были подсвечены розовым облака на небе и вода в бухте.
Едва оказавшись в темноте, Алатристе перестал перебарывать рвотные позывы, и его буквально вывернуло наизнанку. Со шляпой в руке, опершись о стену и пригнув голову, он еще немного постоял так — пока тени вокруг не прекратили качаться и не прояснилось в одурманенной винными парами голове. Немудрено, что наконец оказала свое действие убийственная и беспорядочная смесь разных вин, которые он вливал в себя весь вечер и добрую часть ночи, обходя в одиночестве таверну за таверной, ускользая от встречавшихся на перекрестках товарищей и открывая рот для того лишь, чтобы заказать очередной кувшин. Вот и нажрался, как немец или еще кто похуже.