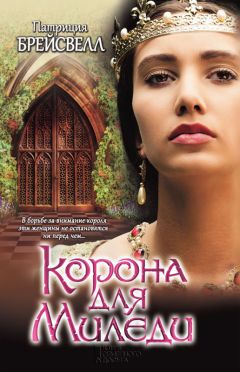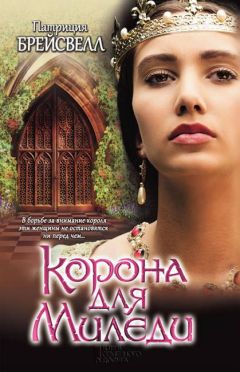— Если и так, то он придет из-за пределов королевства, а не изнутри! Я не могу позволить своим врагам обитать прямо в моем королевстве, жирея на наших землях и только ожидая сигнала, чтобы обернуться против нас и напасть. Люди поумнее тебя дали свое согласие на это дело. Они не стали подвергать сомнению мудрость решений своего короля.
— У живших среди нас датчан не было причин на нас нападать, милорд. Теперь, благодаря вашим действиям, она у них появилась. Попомните мои слова, отец, вы еще пожалеете об этом неправедном поступке. Все мы о нем пожалеем!
— Мне нет дела до твоих сожалений, — бросил ему король. — Разговор окончен. Хьюберт!
Дворецкий Этельреда вошел в комнату, поклонился королю и встал рядом с Этельстаном, язвительно глядя на него.
Расстроенный и злой из-за упрямого нежелания отца принять разумные доводы, Этельстан, вновь ударив ладонью по столу, развернулся и удалился из комнаты.
Его отец — дурак. Богатый, наделенный властью, благословенный Богом, но, тем не менее, дурак. Он принимает решения, которые неизбежно приведут к беде. Это все равно, что греческим огнем пытаться потушить пламя. И Этельстан сильно сомневался, что кто-то из них сможет спастись, когда пожар разгорится по-настоящему.
Этельред хмуро смотрел вослед уходящему Этельстану. Его глупец-сын не понимает. Да и куда ему? Он не видел духа Эдварда, не был обременен предвидением своей собственной судьбы, не был вынужден принимать меры, чтобы ее избежать.
Но, свершив этот поступок, который его сын считает таким отвратительным, он восторжествовал над своими врагами и отвратил от себя отмщение, которое его умерший брат стремился свершить из-за порога смерти. Он уберег свое королевство и свою корону.
И, наконец, он навсегда избавился от ужасного призрака, который так долго преследовал и мучил его.
— Мой сын порицает меня, Хьюберт, — сказал он, — за то, что я защитил королевство, которое он в будущем унаследует. Он противопоставляет свой юношеский ум моему опыту и знанию.
— Ему семнадцать, милорд. Вспомните, когда вам было семнадцать, вы носили корону уже несколько лет. Возможно, ваш сын считает, что он уже такой же сведущий, каким вы были в его возрасте.
Этельред помрачнел. Этельстан пока еще щенок. У него нет опыта, чтобы понимать замыслы взрослого мужчины.
— В семнадцать я был значительно более зрелым, — сказал он. — А мой сын пока еще не овладел умениями правителя. Он руководит своей небольшой гвардией, но еще не прошел боевое крещение.
— И все же, милорд, он недавно оказал вам неоценимую услугу, не так ли? Вмешался, когда датчанин покусился на вашу жизнь, чем проявил свою преданность и ловкость. Возможно, подобную услугу следует вознаградить каким-нибудь символом признания, чем-то, в чем выразилось бы ваше расположение к нему.
— Хочешь сказать, я должен пожаловать ему меч Оффы? Объявить его моим наследником и наделить поместьями для управления?
— Если лорд Этельстан займется собственными обязанностями, у него будет намного меньше времени на то, чтобы рассуждать о ваших, мой король.
Этельред положил подбородок на сцепленные пальцы и поразмыслил над этим советом. В нем был смысл. Безусловно, его сын заслужил признания за свои молниеносные действия в тот день на соборной площади. Пожаловав ему меч Оффы, он лишь подтвердит то, что и так общеизвестно, — что однажды старший этелинг унаследует его трон. Что касается земельных наделов, то, пожалуй, пришло время всем троим его старшим сыновьям дать больше свободы в управлении поместьями, которыми они уже владеют. Это займет их свободное время и даст возможность нажить необходимый собственный опыт.
— Когда витенагемот соберется в следующий раз, мы даруем меч моему сыну и пожалуем ему иные должности. Пусть проявит свои способности принимать правильные решения на собственных подчиненных, а мы посмотрим, как он с этим справится.
Глава 16
Февраль 1003 г. Аббатство Уэруэлл, графство Гемпшир
Закутанная в теплую, отороченную собольим мехом мантию, Эмма медленно шла по усыпанной гравием дорожке монастырского сада в Уэруэлле в сопровождении Уаймарк и Маргот. Это был ее первый выход из помещения за последние недели, и, пройдя совсем немного, Эмма вынуждена была признать свое поражение. Она устала. Она теперь всегда была уставшей. Вялым было не только ее тело, но даже ее ум. Всякое движение, всякая мысль требовали от нее неимоверного напряжения сил, словно ее тело и ум вынуждены были противостоять сбивающему с ног ветру. В тишине темной монастырской часовни она молилась об избавлении от этого изнеможения души и плоти, но ее молитвы оставались без ответа.
Она была благодарна за уход, который ей оказывали сестры, и за заботу, которой ее окружили Уаймарк и Маргот с той самой ночи, когда обнаружили ее изнасилованной, окровавленной, в синяках после ухода короля. Они ухаживали за ее телесными ранами, пока она не набралась сил, чтобы покинуть Винчестер и с плотной вуалью на лице, скрывающей следы от побоев, отправиться в Уэруэлл в паланкине с занавешенными окнами. Раны на теле уже зажили, но осталось душевное оцепенение, такое обессиливающее, что она даже не знала, сколько прошло времени с тех пор, как она здесь появилась. Она приехала сюда задолго до Рождества, так что уже прошло, должно быть, около двух месяцев. Здесь, за монастырскими стенами, время, казалось, остановило свой бег, но она понимала, что то небольшое отдохновение, которое она тут обрела, долго не продлится. Она не может и дальше прятаться от мира, как испуганное дитя, особенно ввиду того, что король потребовал ее присутствия при дворе на Пасху из соображений приличий.
Так что ей придется вернуться в Винчестер. Но до исполнения этой удручающей обязанности оставалось еще несколько недель. День покаяния[12] пришел и минул, но до Пасхи было еще далеко. В окружающем ее саду, все еще по-зимнему голом, не было видно ни малейших признаков наступления весны. Грядущее возрождение природы ускользало, словно призрачный сон.
Эмма подошла к скамье под деревом, голые ветви которого раскинулись на фоне синего неба. Лучи солнечного света пробивались сквозь его скелетообразные сучья, и, усевшись, Эмма подставила лицо их скудному теплу. Кивнув, она пригласила своих спутниц последовать ее примеру, и с минуту они сидели молча, пока Эмма, обернувшись к Маргот, не возобновила разговор, который они перед этим вели.
— Скажите мне, — начала она, — как вы можете быть так уверены в этом?