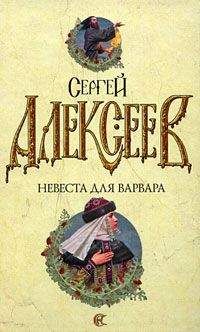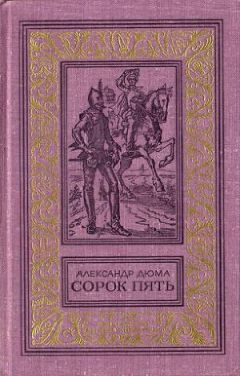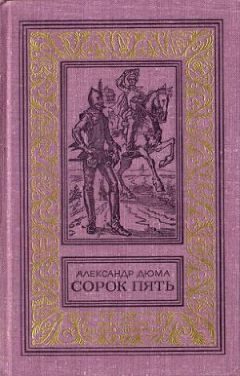А императрица, невзирая на гульбу и празднество непроходящее, о вещей книге чувонцев и о распре ясачных помнила и требовала доклада, будто он каждый день оттуда вести получает. Покою ей не давал сей варварский календарь! Однажды и вовсе спросила, мол, прописано ли в нем, сколько лет ей царствовать? И кого за себя на престоле оставить? Светлейшему приходилось кое-что утаивать, что-то говорить открыто, однако чутьем своим крестьянским она слышала фальшь и сетовала, что все более охватывается беспокойством, как бы междуусобица не переросла в войну сибирских туземцев супротив России.
Можно бы самого якутского воеводу за сие в казематы Петропавловской крепости отправить да там на дыбу вздернуть, но взамен послать некого, и ежели пошлешь, не скоро толку добьешься. Этот хоть Осколку Распуту в сруб заточил, а покуда он в руках, можно выманить из лесов и род его, а потом всех разом и кончить.
Завершив послание, Меншиков сам за императрицу подписался, наложил ее печати, а тут перед светлейшим и хорунжий предстал со взором мутным и отстраненным—должно быть, по простоте своей все еще оставался в неведении, перед кем стоит.
— Что за нелепицу ты привез мне, братец? — Меншиков с нижними чинами и младшими офицерами всегда говорил по-отечески, как и подобает генерал-фельдмаршалу. — Так пойман сей бунтарь, югагирский князек, или же нет?
Верно, его учили, как следует отвечать светлейшему, но, едва порог переступив, оказаченный мужик все забыл.
— Дак яко же не пойман-то, батюшко? — переспросил с угрюмым распевом. — Пойман и в сруб заточен.
Подобное обращение хоть и покривило Меншикова, да он и виду не подал: другого нарочного с посланием императрицы не пошлешь, фельдъегери далее губернских городов ступать боятся и еще охраны требуют, а этот бывалый, все ходы знает, и его всюду знают. За три месяца сумел с Лены до Невы добраться.
— Отчего же в Петербург не переправлен?
— Не желает он в Петербург.
— Кто же у вора, разбойника и преступника государева желание спрашивает? — изумился светлейший. — Коли он в железа забит?
— Дак как же не спрашивать? Он ведь кричит.
— И пусть себе кричит.
— Дак ваше высокоблагородие, от его крику оторопь берет, — признался хорунжий и глаза округлил. — В ушах звон и в голове морок. Четырежды мы на приступ ихней крепости ходили. А чувонцы подпустят совсем близко или даже позволят нам на стены взгромоздиться, потом или огнем пожгут дьявольским, или же яко крикнут зычно, дак мы ровно горох сыплемся. Рук и ног переломано бесчисленно, кто вниз головою, дак и до смерти ушибется. А на кого пламя попадет, тот вспыхивает, ровно свечка, и горит с треском, покуда в пепел не обратится. И водою огнь сей не загасить!
При сем казак заперхал горлом, скорчил гримасу страдальческую и стал похож на юродивого.
Светлейший чуть было сам на крик не сорвался, да опомнился.
— Ты киязька-то сего зрел?
— А как же? И зрел, и ор его слыхал, и стрелял из пищали. Дак свинец не берет!
— Отскакивает, что ли?
— Ни, ваше высокородие, все мимо норовит. — Хорунжий перешел на прерывистый шепот и заблистал очами, озираясь. — Отводит он пули. Воистину сотона! Мы уж и медными пуговицами стреляли в сих оборотней, все одно не берет! Падают вроде и дух вон, а опосля подымаются и смеются. Ей-ей, сила нечистая! Какож ее в Петербург волочь?
— Что же, ничем и взять их нельзя? — не поверил светлейший.
— Можно! — Хорунжий сунулся вперед и дыхнул в лицо духом хмельным и мерзким. — Отыскали мы для адова отродья казнь! Ныне ловим живьем и волкам кормим. Токмо зубы звериные и берут их плоть…
Меншиков отпрянул от него, ровно от чумного, и платочком лицо отер, ибо слюна на него брызнула.
— Ты ответь-ка мне, братец, — он едва сдерживал гнев, — что мне государыне императрице донести? Пленен ясачный сей князек или доселе вольный?
— Дак чего, пленен, донеси, железа наложены.
— Но власти над ним вашей нету?
— Дак кто же над антихристом властен-то, батюшка? — чуть не заплакал казак. — Добро, хоть в сруб заточили… Вот те крест, истинный сотона!
— А где же труба, из которой он огонь пускал?
— Воевода предписал сие орудие в Артиллерийский приказ доставить. Поелику оно с пушечным делом соотносится.
— В Артиллерийский?!.
— Точно так, ваше благородие.
— Какое я тебе благородие?! — не стерпев, прорычал светлейший князь, отчего хорунжий отпрянул и рукою заслонился.
Меншиков же кое-как сладил с собою и вымолвил нравоучительно:
— Называть меня след ваше высокопревосходительство.
Выговорить сие казак не сумел или не посмел и лишь головою покивал. Коли пуще пригрозить ему, так с испугу-то может не вернуться назад в свой острог, сбежит по пути вкупе с грамотой императрицы — на оказаченных мужиков в сражении положиться можно, а в иных случаях — надежда плохая…
— Ну, добро, хорунжий, — примирительно вымолвил светлейший и вынул из ларца крохотную немецкую склянку, — Завтра же немедля отправляйся назад с посланием государыни императрицы. А вкупе с ним передашь воеводе якутскому сию вещицу. Князек плененный питье и снедь-то от вас берет?
С казака робость вмиг и слетела — почуял, живым назад возвратится.
— Еды не приемлет, выбрасывает, — доложил. — А воду принимает.
— Вот и ладно. Дабы склянку не потерять и не разбить, тряпицей оберни и в одежду зашей. — Подал ему подорожную грамоту. — Прежде пойдешь в устье Енисея, а оттуда уж на Лену.
Вкупе с робостью и здравомыслие утратилось.
— Исполню, батюшка! Мы свычные!
Тут и попал Меншикову на глаза кисет казачий,
— А что это у тебя, братец? — Взвесил в руке и завязку распустил. — Никак, табачок?
Хорунжий виновато потупился и язык проглотил. Асвет-лейший высыпал золото на столешницу — фунта полтора!
— И откуда у тебя сей табак? С Лены принес? Тот же еще ниже голову склонил — ни мычит, ни телится.
— Да скажи, не бойся. Ежели и ограбил кого по пути, прощу.
— Не грабил я. — Казак выдавливал из себя слова, ровно глину гончарную. — Сие есть добыча, трофей.
— А где добыл-то?
— Когда крепостицу югагирскую взяли, книжицы да бумаги искали. Там же токмо золото всюду рассыпано. По-ихнему, разь…
— Что же мне воевода о том не отписал?
— Дак не было его с нами на Индигирке…
— Знать, утаили?
Казак на колени бухнулся:
— Пощади, батюшка! Бес попутал! — Сам же из-под бровей глазами зыркает — отвернись, так по затылку кулачищем и стукнет…
Эх, в пыточную бы его да носовертку конскую на шею!
— Прощу, тому и быть… И много там было золота? Хорунжий встал, вздохнул обреченно: