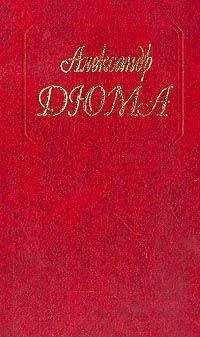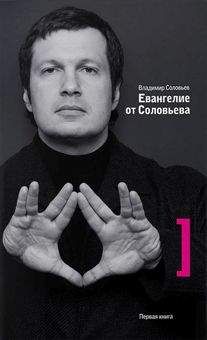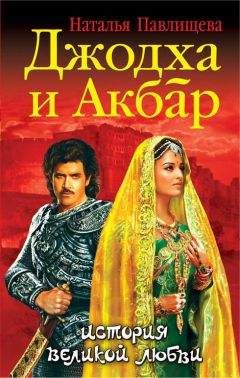— О да, да, Дженни! — воскликнул я, поспешно поднося ее руку к моим губам. — О да, я скажу вам, кого я люблю, и вы, надеюсь, не доведете меня до отчаяния, заявив, что меня полюбить невозможно?
Девушка взглянула на меня с нескрываемым удивлением.
— Послушайте, — продолжал я, — я полюбил впервые в жизни; еще всего неделю тому назад я знал свою любовь только по имени, а вернее, не знал даже ее имени.
— Неделю тому назад?
— Да.
Девушка засмеялась:
— И вдруг вы открыли это чудо Творения, пленившее ваше сердце? И вот так вы влюбились?
— Совершенно верно, Дженни; все произошло так, как вы говорите… Не доводилось ли вам слышать о том, что в каком-нибудь пустом уголке неба при помощи телескопа открывают вдруг дотоле неведомую звезду и что она тем не менее оказывается самой прекрасной и блистательной из звезд?
— И вам для этого понадобился телескоп?
— Да, Дженни, и поэтому-то я знаю, а она меня не знает, поэтому-то я ее вижу, а она меня не видит… Два дня небо было затянуто облаками, два дня ее невозможно было увидеть; и в эти два дня я просто не жил: земля казалась мне обезлюдевшей, небо — пустынным; другие звезды не существовали, а вернее, я на них не глядел… Наконец, я увидел ее вновь, но словно затуманенной, словно затянутой вуалью… Тогда я решил, что ошибся; я стал сомневаться в своем телескопе, я стал сомневаться в собственных глазах, я усомнился в ней самой… К счастью, по-настоящему я ошибся именно на этот раз! Неожиданно она избавилась от обволакивавших ее облаков, и я обрел ее вновь, чистую, целомудренную, сияющую; таким образом, Дженни, вы меня видите после всех моих сомнений и страхов более ободренным и более влюбленным в нее, чем когда-либо прежде!
— Послушайте, господин Бемрод, — заявила Дженни более серьезно, но не более сурово, — я не очень-то хорошо понимаю образный язык, а главное, ум у меня не настолько утонченный и развитой, чтобы отвечать вам в том же стиле. Так что, пожалуйста, опустите вашу звезду с седьмого неба, куда вы ее поместили и где ее можно увидеть только при посредстве чудесного телескопа, который помог вам ее открыть; немного приблизьте вашу звезду, поместите ее в поле моего зрения, и только тогда я смогу вам сказать, что я думаю об этом и, следовательно, что должны думать об этом вы.
Слушая девушку, дорогой мой Петрус, я понял, что для меня наступил тот высший миг существования, когда человеку дается выбор между радостью и печалью, между жизнью и небытием; я понял, что Бог предлагает мне сразу два блага — жизнь и радость — и теперь остается только протянуть руку и взять их.
И я рассказал ей все — как я приехал в Ашборн; как был принят вдовой пастора Снарта; как поверил, что обрел в ней вторую мать; как она однажды назвала меня своим сыном.
Я поведал ей о моей душевной боли, когда по возвращении в Ашборн я узнал, что г-жа Снарт умерла; о своем одиночестве и своей нищете; затем о том, как благодаря сострадательности моих прихожан я избавился от нищеты, но только не от одиночества, и, наконец, о том, как благодаря Провидению, благодаря Господней милости исчезло и мое одиночество.
Я описал моей собеседнице бело-красно-зеленый домик, наполовину выступающий из гущи деревьев и цветов, домик, ставший моим единственным горизонтом; я в словах обрисовал ей окно, эту очаровательную рамку для еще более очаровательного портрета.
Это окно присутствовало при всех моих надеждах, когда появлялась моя незнакомка, при всех моих огорчениях, когда я видел его пустым или закрытым.
Не утаил я от Дженни и двух моих вечерних экскурсий, во время первой из которых я ограничился тем, что вышел на большую дорогу и слушал похвалу г-ну Смиту и его дочери, а во время второй — обошел почти мертвый дом с темными окнами, где единственной искоркой жизни оставался свет в комнате на первом этаже, на который я смотрел через решетчатую ограду с места, откуда меня прогнали голоса трех мужчин и стук кареты.
Она могла проследить за тем, как я возвращался к себе домой; увидеть, как я вошел в пасторский дом, еще более мрачный, еще более одинокий и пустой, чем когда-либо, как поднялся в свою темную комнату, как машинально открыл свое окно и неожиданно вскрикнул, снова обнаружив свою исчезнувшую звезду.
Затем, дав общее описание, я приступил к подробностям — клетка и щегол, белые занавеси над кроватью, кресла, обитые кретоном в розовых цветах, голубая фаянсовая ваза, соломенная шляпка, венок из васильков; я ничего не упустил, ничего не забыл, даже моей утренней растерянности, когда я увидел мою золотоволосую незнакомку в белом платье с голубым поясом, превратившуюся в городскую даму, гладко причесанную, одетую в полосатое шелковое платье с вышивкой и с трудом стоящую в туфлях на высоких каблуках.
Дойдя до этого, надо было идти до конца и рассказать уж обо всем, даже о моей лжи.
Я так и сделал, но поведал также о том, какую испытал радость, какое счастье, вновь увидев мою мечту, мою прелестную бабочку в то мгновение, когда она избавилась от своей куколки, став еще более свежей, более сияющей, более воздушной, чем прежде.
Одну за другой я перебрал все минуты последнего часа, промелькнувшего как секунда и, однако, заключавшего в себе всю мою будущую жизнь: птичий двор с его курами, утками и голубями — то есть жизнь материальную; сад с его цветами, певчими птицами, солнцем — то есть жизнь поэтическую; этот луг с его тенью, журчащим ручьем, далекими запахами — то есть жизнь вдумчивую и сосредоточенную; рассказывая, я остановился только в самом конце моего романа, приведшего меня сюда под эту иву, где я полулежал возле моей слушательницы, и тут я воскликнул:
— Дженни! Дорогая Дженни! Теперь вы знаете возлюбленную моего сердца; моя радость или моя печаль зависят от нее… Скажите, моя дорогая Дженни, могу ли я надеяться или меня ждет отчаяние?
Все начало моего рассказа Дженни слушала, не сводя с меня своих улыбчивых и вопрошающих глаз, поскольку она пока еще не понимала сути происходящего и думала, что речь идет о какой-то незнакомке; затем мало-помалу она начала догадываться, что говорю я о ней; тогда она медленно опустила глаза, не переставая слушать; наконец, щеки ее зарумянились сильнее, а грудь стала чаще подыматься; неожиданно она встала и замерла стоя, все больше и больше краснея, в неподвижности своей подобная статуе Скромности…
А я, произнося последние слова, стал на колени, не выпуская ее прекрасной руки из моих ладоней. Услышав мою мольбу и слабый вскрик боли, вырвавшийся у меня, когда я почувствовал, что эта рука пытается вырваться из них, Дженни пожалела меня и осталась.
Ее сострадание вызвало в моей душе прилив счастья, поскольку в таком случае — Вы, ученый профессор философии, это сами понимаете, — в таком случае сострадание могло означать только одно — начало любви.