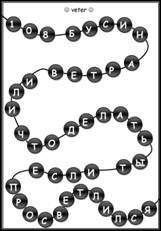Недруги потеряли надежду справиться с ним в рукопашной – он шёл напролом, не обращая внимания на их оружие, и просто ломал либо рвал в клочья всех, до кого мог дотянуться. Тогда по знаку вожака они подались прочь, в стороны, и вперёд вышли стрельцы. С двух десятков шагов не промахнётся даже слепой, а Эгиль ещё и не стал уворачиваться, хотя мог – ибо увернись он, и стрелы, все три, достались бы Харальду. Так уж распорядилась судьба.
Чтобы натянуть гардский лук, требуется усилие, равное весу взрослого человека. Воина, поражённого такой стрелой, сносит с ног и отбрасывает. Могучий Эгиль ещё стоял. «Беги, – сказал Харальду его гаснущий взгляд. – Если погибнешь, твой отец никогда меня не простит…»
– А меня – если брошу своих или дам себя зарезать, точно барана, – ответил Харальд. – Эй, кому невтерпёж схватиться со мной? Я – сын конунга!.. Я – Рагнарссон!..
Никогда не стоит человеку так прямо говорить о себе, но это была последняя битва, когда земные законы и запреты теряют всякую власть. Стрельцы, ругаясь на все лады, снова натянули тетивы, и Эгиль всё же свалился, искромсанный широкими наконечниками. В его теле торчало шесть стрел.
Харальд понял, что остался один. Кругом дотлевали костры, но подле них уже не было удальцов-датчан, только что поднимавших кружки за добрый исход посольства и за своего хёвдинга. На талой земле, уткнувшись кто в чёрный снег, кто в рдяные угли, лежали мертвецы с чужими, незнакомыми лицами. Харальд не мог их узнать. Только то, что одних зарезали без чести, спящими, другие успели заметить приближение смерти и потянуться к оружию… Однако подняться на ноги и достойно встретить убийц смогли только двое. Эгиль, которому бешенство берсерка помогло одолеть дурман. И он, Харальд. Потому что он был сыном Лодброка и не мог посрамить имя отца.
– Я – Рагнарссон!.. – хрипло повторил он вслух. И шагнул навстречу безликим, спрятавшим хари под кожаными личинами.
Первый шаг дался ему страшным усилием, потом стало легче. Люди не могут запомнить всех дел даже самого родовитого человека, но непременно расскажут, как он умер. Ибо свидетели есть всегда. Хотя бы сами убийцы, которые обязательно похвастаются совершённым. Смерть есть последний поступок, и зачастую важнейший. Он многое искупает даже в неудавшейся жизни. Вот как у него, Харальда…
Он увидел, как стрельцы снова вскинули свои страшные луки, и напрягся всем телом, ожидая, что не прикрытую щитом и доспехами плоть его вот сейчас раздерут, пронзят железные наконечники. Но откуда-то долетел повелительный окрик, и луки нехотя опустились. Голос показался Харальду знакомым, но сообразить, кому он принадлежал, датчанин не смог. Он повернулся в ту сторону, напряг зрение, пытаясь удержать плывущие перед глазами деревья. И увидел лежащего навзничь на земле боярина Твердислава, а над ним – воина в личине, только что опустившего меч… И ещё не загустели тяжёлые тёмные капли, стекавшие наземь с узорчатого лезвия…
Этот меч…
На один дурнотный миг у Харальда голова пошла кругом: Хрольв Пять Ножей, явившийся из Роскильде выручать попавшего в беду родича – и по ошибке поднявший руку на друга…
Потом всё встало на место. Харальд вспомнил. И понял, почему стрельцам, убившим Эгиля, не было велено трогать его. И выговорил, не веря себе:
– Сувор ярл? Сувор Щетина?..
…А ведь учили его в бою видеть всё кругом себя, и впереди, и за спиной, и ни к чему не прилипать пристальным взглядом, – пропадёшь!.. Учить-то учили, да вот не помогло. Стоило Харальду дать себя ошеломить зрелищем неподобной измены – и всё! Люди, взявшие его в кольцо, того только и ждали. Мигом накинули Харальду на голову и плечи пеньковую рыболовную сеть, подбили под колени древком копья… Он упал, пытаясь высвободиться и не потерять меч, запутался ещё больше и взвыл от отчаяния, поняв: злая судьба всё-таки отказала ему в смерти, достойной сына Лодброка. Удары сыпались градом – спелёнутого сетью датчанина пинали ногами, дубасили оскепищами, нацелились по хребту вдетым в ножны мечом, но промахнулись и сломали только ребро… Кажется, на нём решили выместить злобу и расплатиться за всех, кого разорвал Эгиль и зарубил Твердислав. Рассудок уже застилала погибельная багровая тьма, когда Харальд сумел выпростать левую руку и зацепить ею чью-то лодыжку. У него давно выбили меч, а до боевого ножа, висевшего на животе, было не дотянуться. Едва ли не последним усилием Харальд сумел удержать схваченную ногу, приблизить к ней лицо и… запустить зубы в грязное голенище…
Скажи ему кто ещё вчера, будто человек способен, словно клыкастый пёс, прокусить толстую сапожную кожу и добраться до тела, – разве посмеялся бы, сочтя небылицей. А вот сбылось, и прокусил, и добрался, и ощутил на губах кровь, и услышал истошные крики укушенного – и лишь яростней заработал челюстями, перегрызая врагу уязвимое сухожилие над пяткой…
Сырой ветер донёс карканье двух воронов, пробудившихся задолго до рассвета. А может, Харальду только померещились их одобрительные голоса.
Кажется, его били ещё, и темнота стала окончательно смыкаться над ним, и он уплыл из этого мира в сумежное безвременье и тишину, успев огорчиться, ибо за чертой его не ждали девы валькирии, избирающие достойных. Его последняя мысль была отчётливой и злорадной: хоть какой, а ущерб своим убийцам он причинил. Не станут они бахвалиться, будто младший Рагнарссон сдался без боя, будто его оказалось уж так легко одолеть!..
…Люди в личинах сновали по широкой прибрежной поляне, торопливо добивая всех, в ком ещё теплилась жизнь. Копья поднимались и опускались, и в свете догоравших углей был виден пар, понимавшийся с окровавленных наконечников.
– Лабута! – огляделся вожак. – Где бродишь, живо сюда!..
Он не торопился вкладывать в ножны меч, в рукояти которого лучился синий камень, словно бы мерцавший своим собственным светом. Человек был недоволен и зол. Не таким виделось ему только что завершённое дело. Не так всё должно было произойти. И желанная добыча оказалась совсем иной, чем он себе представлял…
Он поднял чей-то плащ, валявшийся на земле, и разочарованно вытер длинный клинок. Кто бы мог подумать, что Синеокий станет вот так противиться его руке… Плащ, сколотый пряжкой, ещё держался на плече мертвеца, и человек в личине раздражённо дёрнул его, желая порвать. Добротная ткань не поддалась – пришлось отмахнуть мечом. Движение опять вышло неловким, и это озлило вожака пуще прежнего.
Подбежал Лабута:
– Звал, господине?
– Звал. – Вожак наконец-то сдвинул личину с лица. – Ты всё хорошо сделал, Лабута. Надо только тебе ещё раны принять…
Воин сглотнул, но взгляд и голос не дрогнули:
– Приму, господине…
– Первую держи!..
На сей раз меч послушался безукоризненно. Коротко свистнул – и резанул снизу вверх, распоров и окрасив кровью штанину. Лабута покачнулся, оскалил зубы, выдохнул. Однако устоял и не закричал. Вожак не глядя протянул руку, взял поданный лук, приладил стрелу. Потом ткнул Лабуту пальцами в бок, выясняя, где под толстым тёплым кожухом начинается тело.
– Локоть отведи, бестолковый…
Новогородец поспешно повиновался. Он смотрел с беспредельным доверием и осторожно опирался на раненую ногу, на которой уже густо набухала кровью штанина. Так было надо. Вожак быстро вскинул лук и спустил тетиву. Он был великим воином. Он и не целясь бил метче, чем юные отроки – после долгих мгновений стояния прищурясь и с высунутым от старания языком… Так и тут. Стрела обожгла тело и с визгом ушла в чернеющий лес. Лабута ахнул, рука непроизвольно стиснула бок. Вниз, под ремень, уже скатывались тёплые кровавые струйки.
– Зря пожалел, господине, – запоздало просипел он сквозь сжатые зубы. – Лучше бы в голову… Повязку враз видно чтоб… И за мёртвого с этим не бросили бы…
Вожак подумал над его словами и согласно кивнул. Потом вытащил из-за пояса и надел на левый кулак тяжёлую рукавицу, обшитую по тыльной стороне кольчужными звеньями.