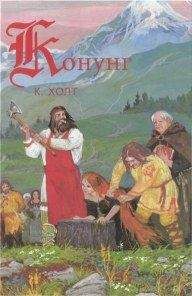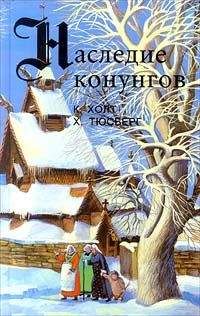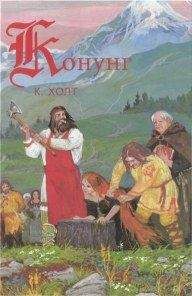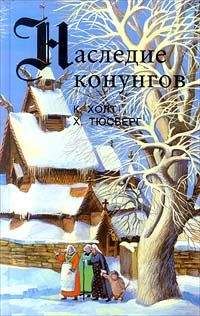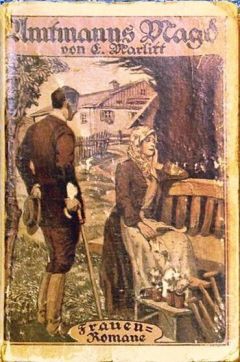И твоя и моя судьба, йомфру Кристин, зависит от того, кому из этих двоих Господь явит свою милость. Но помни, что фру Гудвейг уже молится за нас.
Она наклонила голову, я видел, что она тоже молится.
Я сказал:
— В Священном писании говорится, что правда делает человека свободным. В ближайшие ночи, пока мы будем ждать, кто вернется сюда, Сигурд с Гаутом или Гаут с посошниками, моя сага о конунге подарит нам немного свободы, которая должна быть благородным грузом в сердце каждого человека. Мне мало известно о тайных помыслах Господа Бога, йомфру Кристин. Сердце конунга я знаю гораздо лучше.
Мы со Сверриром стояли на холме тинга в Хамаре в Вермаланде, где он в первое воскресенье семинедельного поста взял на себя предводительство разбитым войском берестеников. С большого озера тянулись хлопья тумана, и луна, словно корабль из белого серебра, плыла среди облаков. Мы стояли и смотрели на обширную равнину с редким березовым лесом и тяжелыми одинокими елями. Среди деревьев горело полсотни костров.
Вокруг пляшущих языков пламени на снегу сидели люди, неистовые и тихие, здоровые и раненные, у многих в крови были не только руки. До нас долетали гудящие, ворчливые, встревоженные, гневные и хриплые голоса суровых, продрогших и усталых людей. Иногда, словно крик ворона над воющей стаей волков, проносился женский вопль. Где есть воины, всегда есть и женщины, пришедшие к ним по заснеженным тропинкам из домов и затерянных усадеб в надежде, что после того, как они выполнят то, чего от них ждут, они разживутся серебряной пуговицей. Слышалось ржание лошадей, брань и грубый хохот и где-то, — а может, то был только ветер, не знаю, старая память начала изменять мне, — где-то в высоте, в темноте, в тумане, в ночном снежном свечении кто-то пел: Господи, помилуй!
Эти люди потерпели поражение при Рэ. С ними был Сверрир — их новый предводитель и будущий конунг, и я — его друг. Воинам было велено собраться вечером на равнине у холма тинга. Завтра утром конунг хотел говорить с ними. До того вечера воины жили на соседних усадьбах. Время было не из легких и для воинов, и для бондов, и для Сверрира, и для меня.
Ко мне без конца приходили люди, которые с моей помощью хотели попасть к конунгу, я их не знал, и они требовали больше того, что я мог дать им. Среди них были люди с тяжелыми ранами и легкими царапинами, их изможденные лица были покрыты черными морщинами боли, многие были полуголые, их голени и ступни едва прикрывала береста. Эти дни остались в памяти, как самые тяжелые дни моей жизни. Разве я не был близким другом конунга? Разве не гордился тем, что мой долг служить всем? Я часто чувствовал себя загнанным и до смерти усталым зверем. Где целебные снадобья, которые мы обещали простывшим на морозе людям? Где человек, который должен был варить отвары из целебных трав, где женщина, которая могла бы перевязать их раны? А где пиры, где забитый скот, где одежда, где лошади, где оружие, которое конунг поклялся достать своим людям? Скоро ли оно будет у нас? Когда мы получим оружие, чтобы можно было вернуться и отомстить за свое позорное поражение при Рэ? Где конунг? А ты-то сам кто?
Случалось, я убегал от них, чтобы получить хоть небольшую передышку. Я научился кричать: Один из наших умирает!… Я должен бежать к умирающему!… Повсюду были люди, раны, стоны, мороз, смущение, брань и беспорядок. Я мало спал в те ночи.
А конунг, человек с далеких островов, который должен был отныне возглавить этих людей, не померкла ли его звезда, так и не успев загореться? Ошибся я или нет? Не обманулся ли в способностях этого человека? Того, которого они приветствовали на тинге громкими криками и бряцанием оружия всего несколько дней назад? Теперь они не приветствовали его.
Берестеники крали все подряд, как вороны в нашем родном Киркьюбё, ни одно серебряное кольцо на их пальцах не было добыто честным путем. Приходили угрюмые отцы семейств, с топорами, висящими на локте, готовые прибегнуть к оружию, чтобы вернуть то, что по праву принадлежало им. Они рассказывали одну и ту же недобрую сагу, которую мне больно теперь вспоминать, о похищенных дочерях и забитых овцах. Что я мог предложить им взамен?
Немного радости было нам и от того, что под начало конунга стали стекаться новые люди. Это правда, у нас было мало воинов. И Сверрир говорил: Наше войско должно быть больше! Но что к нам по всем тропинкам начнут стекаться именно такие люди, не предполагали ни он, ни я.
Раненные и обмороженные остались лежать на дорогах, ведущих сюда из Рэ. Выжившие, хромая, приходили к нам и приводили с собой других. У ярла Эрлинга Кривого и его сына конунга Магнуса оказалось много недругов в лесах Борга и Ранрики. По всей стране шла молва о новом конунге, она достигла всех недовольных и преследуемых. Они стремились сбиться в стаю, чтобы им было легче заниматься грабежом. Один из наших воинов ушел, чтобы вернуться с братом, а вернулся с четырьмя. Это были сомнительные люди, часто пьяные, слово конунга не значило для них ничего. Оружия у них почти не было. То, что имелось, может, и сошло бы для грабежей, но не могло принести пользу войску, которое ждали кровавые сражения.
Старые берестеники косо смотрели на вновь пришедших. Теперь всем стало труднее находить и женщин, и пиво. Они приходили ко мне и жаловались друг на друга. Мне приходилось разговаривать с этими недовольными людьми, отгородившись от них длинным столом. Я стучал по столу, на глазах у меня выступали слезы. Как-то раз один из них вспрыгнул на стол и хотел вцепиться мне в горло. Я отбросил его руку. Тогда пришел конунг…
Его голос покрыл шум:
— А ну прочь отсюда!…
Они вышли. Их брань долго висела в воздухе, как запах обожженной плоти.
***
Однажды вечером ко мне пришел молодой человек, наверное, он был бонд, в руке у него было коровье копыто.
— Мне надо поговорить с конунгом, — сказал он.
— Сейчас нельзя, — ответил я.
— Я не уйду, пока не увижу его, — заявил он.
— Но конунг сейчас спит! — крикнул я.
— А мне сказали, не спит!
— Проваливай в преисподнюю!
— Все в свое время, — ответил он.
— Скорей бы пришло твое!
— Думаю, Господь будет милостив к нам обоим, — сказал он.
— Конунг ничего не должен тебе!
— Его люди должны заплатить мне за корову, которую они у меня забрали.
Я не сводил с него глаз — вообще-то я не из робких, но при мне не было оружия. Смахнув с глаз усталость, я подвел его к табурету, что стоял у очага и попросил сесть. И велел подождать, пока я ищу конунга.
— Я знаю, что ты мне лжешь, — сказал он.
— Я лгу почти всем, — согласился я.