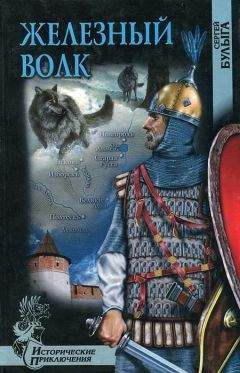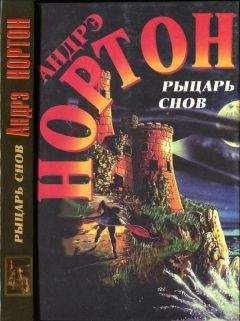Ознакомительная версия.
— Мог. Да…
— Вот то–то и оно! А взял! Мог не вступаться я за Ярослава Ярополчича, ибо вы сами по себе, мы сами… А ведь вступился! А то, что я к Берестью не иду, понимать надо! Вот ты седой совсем, Угрим, пора понять: мечом славы добыть ума много не надо. Вот без меча… — И усмехнулся князь и бороду огладил, сказал, как малому: — Да Святополк давно бы подушил вас всех, когда бы без оглядки шел. А так ведь знает: есть Всеслав, сидит у себя в Полтеске спокойно. Вот Великий и медлит. Всю зиму под Берестьем простоял. Он и сейчас стоит; он сыновей послал вдогон, а сам ни с места, ибо он страшится: вдруг Всеслав, как в прежние годы, двинется. Вот так–то вот, Угрим. А ты: «Брат! Брат!»
Опять долго молчали. Потом Угрим сказал:
— Пусть так. Но как нам быть? Ведь ты же не идешь.
— Да, не иду. А быть вам так! Пусть Ярослав брата не ждет, уходит в ляхи. Здесь, на Руси, никто ему…
— Князь!
— Я сказал! Никто за Ярослава не заступится! Да и потом… — Всеслав вздохнул, печально улыбнулся. — Ну что мне стоило наговорить тебе с три короба, наобещать, мол, передай, что я, Всеслав, целую крест…
— Но ты же не целуешь!
— Не целую. Не целовал и не пришел. А Вячеслав ведь целовал? Чего молчишь? Вот то–то и оно, что целовал, а тоже не пришел. У вас там на Руси давно такой обычай: кто поцелует, тот и предает. Потому Святополк и ждет, когда брат Вячеслав…
— Князь!
— Сядь, Угрим!.. Охолонись. И слушай, что там дальше будет… — И головой мотнул, утерся рукавом, «говорил хрипло: — Кто первым выбежал из Киева? Не Вячеслав, а Ярослав. Ярослав же брату написал: мол, жду, даю тебе Городню, станем заодин и отобьемся, а после на Волынь пойдем, на отчину. Ведь так?
— Да, так.
— То–то же! Теперь приходит Святополк и Вячеславу говорит: я знаю, ты не виноват, а это старший брат тебя сманил, и посему тебя прощу и Городню тебе оставляю, владей, но ты за это, Вячеслав…
— Нет!
— Да! Запомни, что я говорю, Угрим, запомни! И Ярославу передай: Всеслав почуял! Понял? И чтоб бежал он в ляхи, Ярослав, нам, полочанам, не успеть уже собраться. Гони, Угрим! — Всеслав встал. — Гони! Тебе коней дадут, каких захочешь. Скажешь, что я велел… Угрим! День нынче года… жизни стоит! Ну!
И поднялся Угрим. И был он черен, зол. Да он всегда такой, еще со времен свата памятен. Встал и ушел, не поклонившись. Пес! И пусть Ярославу говорит, что хочет. Пусть — мертвые сраму не имут…
Но гадко, грязно, подло было на душе! Ходил по гриднице, садился, вновь вставал. Да, мертвые сраму не имут, это верно. А кто еще живой, тем как? Семь дней еще так ходить, носить в себе эту тяжесть. А что ты можешь? Когда бы не Она, тогда б сказал: «Беги ко мне!» Гонец два дня туда, день там, и Ярослав через два дня сюда прибудет. А если что в пути? Бежать–то им не просто — через ятвягов. Да и кто в среду сядет в Пол–теске? Кого назвать? Глеб, Ростислав, Давыд, Борис?..
А если б ты этой ночью умер, тогда бы не застал тебя Угрим. И говорили б все: вот был бы жив Всеслав, заступился бы за Ярослава! И Святополка бы разбил, и племя его выгнал из Владимира, и отдал бы Волынь законным, Ярополчичам. А так…
Выходит, Она права? Всем нужно уходить в свой срок. А ведь лишь только первый день пошел! Их семь всего. И за семь дней…
Сел, обхватил руками голову. Гордец! Что возомнил! Володша, тот…
Смеялся Володша и говорил:
— Молчат находники! Не лезут.
И не лезли. Рюрик опять ушел за море. И долго его не было. В Новом Граде посадник сидел, из варягов. Брал дань, но только с ближних, с ильменцев.
Зато Оскольд в силу вошел. Любеч подмял, Чернигов. А после взял Смоленск. Зима пришла. Явились они к Полтеску. Лед на реке, голод в городе. И слух — это наказание за убиенных. Пошел Володша на кумирню и жег дары, рабов. Не помогло — молчал Перун.
А у Оскольда новый Бог, ромейский. Всесильный, грозный Бог. И сам Оскольд теперь зовется Николаем и чтит того, ромейского, который на кресте распят. К полянам из Царьграда волхв пришел, он звался Михаилом, принес Писание и уверял: вот где истинная вера. Смеялись все, Оскольд тоже смеялся. Тогда сказал им Михаил: «Смотрите!» — и бросил то Писание в огонь. И отступил огонь! И все они, кияне, поклонились и были крещены. А теперь они с тем грозным и всесильным Богом пришли сюда. Их тьма. Мечи, щиты, кольчуги — все на них ромейское. А у Володши что? Да и Перун молчит. И отворили люди Лживые Ворота — те, которые раньше Верхними назывались и через которые Трувор входил.
Побежал Володша, но поймали его. И разорвали здесь же, под окном. Оскольд дань положил и ушел, посадника оставил. И тихо было в Полтеске. Володшу, и жену его, и сына, и братьев — под корень всех извели.
Всех, да не всех! Микула уцелел. Они с Володшей — одного отца, но разных матерей. Говорят, ушел Микула по реке куда–то вниз, возможно, к варягам. А было оно так или нет, кто знает…
Князь поднял голову. Игнат в дверях.
— Ну, что тебе?!
— Так ждут давно. Те, на реке.
— А что Угрим?
— Уехал. Скоро.
— Как?
— Все честь по чести. Взял Лысого. А в поводу — Играя и Стреножку.
— Хорошо. Иди. Я приду.
Игнат ушел. Тихо в гриднице, пусто. Стол, миска, хлеб. Здесь за столом отец сидел. И дед. И много еще кто. А первым сел Микула. Хлеб… Князь отломил краюху и понюхал. Постоял… Потом подошел к печи и опустился на колени. Тихо позвал:
— Бережко! Бережко!
Никто не ответил. Да он ответа и не ждал. Переломил краюху, покрошил. Опять позвал:
— Бережко! Ешь!
Высыпал в подпечье. Подождал. Ни звука. Заглянул туда.
И улыбнулся — угольки светятся. Да, словно угольки. Моргают, тусклые. Значит, жует. Сыпанул еще, потом еще. Лик, он издалека привезен. Микула ликов не имел, он кланялся кумирам. А Полтеск у Оскольда взял! Прости мя, Госпоги!..
Перекрестился, встал и осмотрелся. Никого. Стол, миска, хлеб. А за окном давно уже светло. Пора идти. Небось заждались.
2
Спустился по крыльцу. Крыльцо скрипело. Когда живой идет, оно всегда скрипит. А вот Она ходит неслышно.
Грязь во дворе. Перемостить пора. Ведь говорил же им не раз. Да что им грязь? Им грязь привычна. Им надо, чтобы все было в грязи, чтобы никто не вылезал. И думают, так здесь и ловчей всего. И правильней. Ровней. Бух в Зовуна — и глотку драть. Как будто что по–дедовски идет — это и есть венец всему. Глушь, темнота людская.
Щека задергалась.
Да что теперь тебе до них до всех? Осталось–то всего ничего, терпи! Терплю. Вон Хром идет. Бог в помощь, Хром. Будь здрав, Бажен. Кивнул, опять кивнул…
Остановился, оглянулся на Софию, снял шапку, осенил себя крестом. Отдал поклон — не Зовуну, а ей, ибо Зовун сам по себе, мы сами по себе. Шапку надел — на самые глаза. Прошел мимо него, не покосился даже… А ведь хотел идти без шапки. Взял сапоги варяжской юфти, нагольный полушубок, меч. А шапку отложил.
Ознакомительная версия.