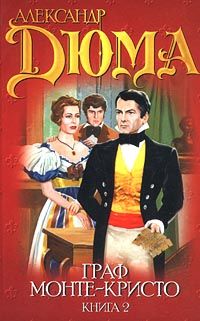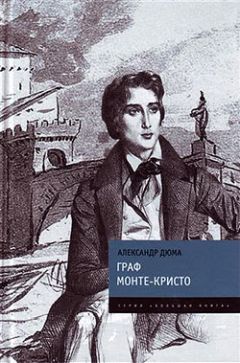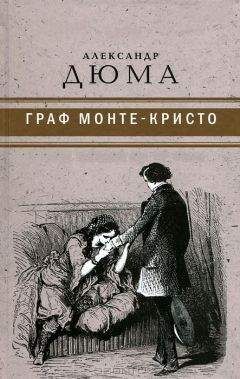— Тем лучше, — сказал Кадрусс, — тем лучше! Когда женишься, нужно уметь верить; но все равно, приятель, я тебе говорю; не теряй времени, ступай, объяви ей о своем приезде и поделись своими надеждами.
— Иду, — отвечал Эдмон.
Он поцеловал отца, кивнул Кадруссу и вышел.
Кадрусс посидел у старика еще немного, потом, простившись с ним, тоже вышел и вернулся к Данглару, который ждал его на углу улицы Сенак.
— Ну, что? — спросил Данглар. — Ты его видел?
— Видел, — ответил Кадрусс.
— И он говорил тебе о своих надеждах на капитанство?
— Он говорит об этом так, как будто он уже капитан.
АР.
— Вот как! — сказал Данглар. — Уж больно он торопится!
— Но Моррель ему, как видно, обещал…
— Так он очень весел?
— Даже до дерзости; он уже предлагал мне свои услуги, как какая-нибудь важная особа; предлагал мне денег, как банкир.
— И ты отказался?
— Отказался. А мог бы взять у него взаймы, потому что не кто другой, как я, одолжил ему первые деньги, которые он видел в своей жизни. Но теперь господин Дантес ни в ком не нуждается: он скоро будет капитаном!
— Ну, он еще не капитан!
— Правду сказать, хорошо было бы, если бы он им и не стал, — продолжал Кадрусс, — а то с ним и говорить нельзя будет.
— Если мы захотим, — сказал Данглар, — он будет тем же, что и теперь, а может быть, и того меньше.
— Что ты говоришь?
— Ничего, я говорю сам с собою. И он все еще влюблен в прекрасную каталанку?
— До безумия; уже побежал туда. Но или я очень ошибаюсь, или с этой стороны его ждут неприятности.
— Скажи яснее.
— Зачем?
— Это гораздо важнее, чем ты думаешь. Ведь ты не любишь Дантеса?
— Я не люблю гордецов.
— Так скажи мне все, что знаешь о каталанке.
— Я не знаю ничего наверное, но видел такие вещи, что думаю, как бы у будущего капитана не вышло неприятностей на дороге у Старой Больницы.
— Что же ты видел? Ну, говори.
— Я видел, что каждый раз, как Мерседес приходит в город, ее провожает рослый детина, каталанец, с черными глазами, краснолицый, черноволосый, сердитый. Она называет его двоюродным братом.
— В самом деле!.. И ты думаешь, что этот братец за нею волочится?
— Предполагаю, — как же может быть иначе между двадцатилетним детиной и семнадцатилетней красавицей?
— И ты говоришь, что Дантес пошел в Каталаны?
— Пошел при мне.
— Если мы пойдем туда же, мы можем остановиться в «Резерве» и за стаканом мальгского вина подождать новостей.
— А кто нам их сообщит?
— Мы будем на его пути и по лицу Дантеса увидим, что произошло.
— Идем, — сказал Кадру ее, — но только платишь ты.
— Разумеется, — отвечал Данглар.
И оба быстрым шагом направились к назначенному месту. Придя в трактир, они велели подать бутылку вина и два стакана.
От старика Памфила они узнали, что минут десять тому назад Дантес прошел мимо трактира.
Удостоверившись, что Дантес в Каталанах, они сели под молодой листвой платанов и сикомор, в ветвях которых веселая стая птиц воспевала один из первых ясных дней весны.
В ста шагах от того места, где оба друга, насторожив уши и поглядывая на дорогу, прихлебывали искрометное мальгское вино, за лысым пригорком, обглоданным солнцем и мистралями, лежало селение Каталаны.
Однажды из Испании выехали какие-то таинственные переселенцы и пристали к тому клочку земли, на котором они живут и поныне Они явились неведомо откуда и говорили на незнакомом языке Один из начальников, понимавший провансальский язык, попросил у города Марселя позволения завладеть пустынным мысом, на который они, по примеру древних мореходов, вытащили свои суда. Просьбу уважили, и три месяца спустя вокруг десятка судов, привезших этих морских цыган, выросло небольшое селение В этом своеобразном и живописном селенье, полумавританском, полуиспанском, и поныне живут потомки этих людей, говорящие на языке своих дедов В продолжение трех или четырех веков они остались верны своему мысу, на который опустились, как стая морских птиц, они нимало не смешались с марсельскими жителями, женятся только между собой и сохраняют нравы и одежду своей родины так же, как сохранили ее язык.
Мы приглашаем читателя последовать за нами по единственной улице селения и зайти в один из домиков, солнце снаружи окрасило его стены в цвет опавших листьев, одинаковый для всех старинных построек этого края, а внутри кисть маляра сообщила им белизну, составляющую единственное украшение испанских роsadas[2].
Красивая молодая девушка, с черными, как смоль, волосами, с бархатными, как у газели, глазами, стояла, прислонившись к перегородке, и в тонких, словно выточенных античным ваятелем пальцах мяла ни в чем не повинную ветку вереска, оборванные цветы и листья уже усеяли пол; руки ее, обнаженные до локтя, покрытые загаром, но словно скопированные с рук Венеры Арльской, дрожали от волнения, а легкой ножкой с высоким подъемом она нетерпеливо постукивала по полу, так что можно было видеть ее стройные, изящные икры, обтянутые красным чулком с серыми и синими стрелками.
В трех шагах от нее, покачиваясь на стуле и опершись локтем на старый комод, статный молодец лет двадцати — двадцати двух смотрел на нее с беспокойством и досадой; в его глазах был вопрос, но твердый и упорный взгляд девушки укрощал собеседника.
— Послушай, Мерседес, — говорил молодой человек, — скоро пасха, самое время сыграть свадьбу. Ответь же мне!
— Я тебе уже сто раз отвечала, Фернан, и ты сам себе враг, если опять спрашиваешь меня.
— Ну, так повтори еще, умоляю тебя, повтори еще, чтобы я мог поверить. Скажи мне в сотый раз, что отвергаешь мою любовь, которую благословила твоя мать; заставь меня понять, что ты играешь моим счастьем, что моя жизнь или смерть для тебя — ничто! Боже мой! Десять лет мечтать о том, чтобы стать твоим мужем, Мерседес, и потерять эту надежду, которая была единственной целью моей жизни!
— По крайней мере не я поддерживала в тебе эту надежду, — отвечала Мерседес, — ты не можешь меня упрекнуть, что я когда-нибудь завлекала тебя. Я всегда говорила тебе, я люблю тебя, как брата, но никогда не требуй от меня ничего, кроме этой братской дружбы, потому что сердце мое отдано другому Разве я не говорила тебе этого, Фернан.
— Знаю, знаю, Мерседес, — прервал молодой человек — Да, ты всегда была со мной до жестокости прямодушна, но ты забываешь, что для каталанцев брак только между своими — священный закон.
— Ты ошибаешься, Фернан, это не закон, а просто обычай, только и всего, — и верь мне, тебе не стоит ссылаться на этот обычай. Ты вытянул жребий, Фернан. Если ты еще на свободе, то это просто поблажка, не сегодня так завтра тебя могут призвать на службу. А когда ты поступишь в солдаты, что ты станешь делать с бедной сиротой, горемычной, без денег, у которой нет ничего, кроме развалившейся хижины, где висят старые сети — жалкое наследство, оставленное моим отцом матери, а матерью — мне? Вот год, как она умерла, и подумай, Фернан, ведь я живу почти милостыней!