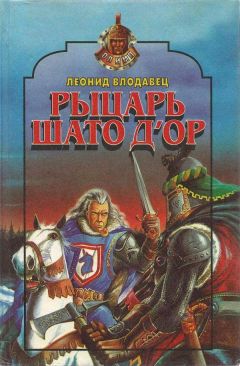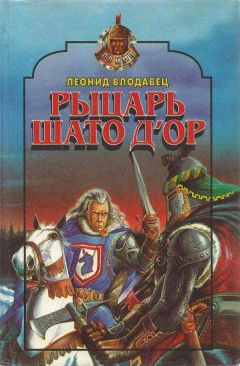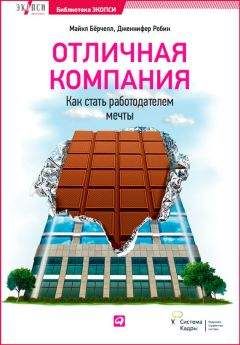…«Дух Генриха Шато-д’Ора и его погибшая дружина» между тем уже закончили спуск с Тойфельсберга и очутились всего в полумиле от окраины Визенфурта, точнее, от захудалой гончарной слободы, для которой места внутри города не хватило.
— Ну что, — спросил Ульрих у своих спутников, — будем в город стучаться? Ворота уж небось давно закрыты…
— Не надо, я думаю, ваша милость, ночью в ворота лезть, — высказался Марко. — Шумно будет, да и пришибить могут ненароком…
— А куда же денемся? — спросила Марта. — Шатер ставить будем?
— Нет, это не пойдет! — сказал Ульрих. — Слишком заметное сооружение. Лучше ночевать попросимся к кому-нибудь победнее…
Выбрав одну из самых захудалых хибарок, в ночи казавшейся грудой соломы, бревен и веток, путники вошли во дворик, где уныло чавкала худющая, словно джейран, корова. Бряцание оружия и конский храп заставили пробудиться хозяйку дома. Это была рослая тридцатилетняя вдова-гончариха.
— Ох ты, Господи, — всполошилась она, — ваша милость, да куда ж вы? У меня и места-то столько нету! Смилуйтесь!
— Тихо, — внушительно произнес Ульрих, — не ори. Всех примешь. Коней к корове твоей в хлев запихнем, за ночь они ее не съедят. Слуг моих на сено уложим, не изомнут за ночь… Хе-хе… А сам я в доме лягу.
— Как будет угодно вашей милости, — сказала вдова, и в голосе ее появились некие нотки, которые позволяли предположить, что присутствию в своей хижине мессира рыцаря вдова даже несколько радуется.
Ульрих вошел в низенькую дверь, согнувшись в три погибели. Стена избушки стояла с наклоном градусов в шестьдесят, и, проходя внутрь помещения, Ульрих не мог отделаться от ощущения, что, задень он потолок или стену, — все строение с грохотом завалится набок. Жилище вдовы представляло собой зрелище весьма неприглядное. Это был некий гибрид гончарной мастерской, склада готовой продукции — грубо сляпанных горшков разного калибра, — курятника и собственно жилья. Большую часть помещения занимала мастерская с примитивным гончарным кругом, печью для обжига горшков и огромной ямой для замеса материала. Все стены были обляпаны потеками засохшей глины и закопчены дымом от потрескавшейся печи. Пол — земляной, только кое-где через лужи были положены доски. Границу мастерской и жилого помещения обозначал куриный насест, где, нахохлившись, спали пять-шесть куриц и одноглазый петух. В жилой части имелся очаг — обложенное камнями кострище, над которым в потолке зияла здоровенная дыра. Все остальное пространство, за исключением кучи сена, поверх которой лежали свернутая овечья шкура вместо подушки и сшитое из трех овчин одеяло, было заставлено от пола до потолка горшками. Ульрих подумал, что перспектива быть задавленным обрушившейся продукцией этого явно убыточного производства весьма и весьма реальна.
— Вот уж как у меня, не обессудьте, мессир рыцарь! — виновато сказала вдова, обводя рукой освещенное тусклой лучиной хозяйство.
— Ладно, — сказал Ульрих и стал расстегивать доспехи.
— А мне куда ложиться прикажете? — смиренно поинтересовалась гончариха.
Ульрих понял, что гончариха спрашивает это неспроста. Лечь она могла только на ту же кучу сена и под ту же самую овчину, что и Ульрих. Выгонять ее во двор Ульрих не хотел. Соображения гуманности были лишь одним — и наиболее незначительным — обстоятельством, которое определяло это его решение. Во-первых, выставленная из дома гончариха направилась бы к кому-нибудь из родных или знакомых, и таким образом количество лиц, знающих о приезде Ульриха в слободу, резко увеличилось бы. Среди осведомленных могли оказаться и люди маркграфа. Во-вторых, она могла отправиться на сеновал, точнее, на ту кучу сена, которая была свалена у стены хлева, где должны были переночевать Марко и Марта. Ей там тоже находиться было излишне, поскольку она могла помешать отцу и дочери разобраться в том, какие между ними должны существовать отношения: чисто семейные или еще и половые, а кроме того, могла узнать то, чего ей знать не следовало. Наконец, действительно неудобно было выбрасывать несчастную вдову на улицу в награду за ее гостеприимство.
— Ложись здесь! — сказал Ульрих, указывая на кучу сена. Найдя на стене нечто, что при значительной доле фантазии можно было принять за распятие, Ульрих встал на колени и начал молиться. Вдова встала поодаль и тихонько повторяла за Ульрихом слова молитвы. Помолившись, Ульрих улегся на сено и положил голову на овчину, заменявшую подушку. Приятная нега разом охватила его тело, только сейчас Ульрих почувствовал, что устал. Хозяйка между тем задула лучину и спросила Ульриха:
— Мне это… ваша милость, рубаху-то не снимать?
Следовало раньше сообщить читателю, что, кроме длинной льняной рубахи и платка, на ней ничего не было.
— Исколешься ведь вся, — сонно сказал Ульрих, — ложись.
Перекрестившись, вдова забралась под овчину и, в ожидании, улеглась на спину. Грех противозаконной любви ее не смущал по двум причинам: Ульрих, благородный господин, мог с любой простолюдинкой поступать, как ему вздумается, эта аксиома была вбита в гончариху с детства, а кроме того, без мужа гончариха еще не привыкла, и в данном случае имело место сочетание приятного с полезным. Правда, кое-какое неприятное ощущение греховности ее немного тревожило, но вдове гораздо сильнее хотелось совершить грех, чем не совершать его. Она лежала, прикрыв глаза, сердце ее сжималось в предвкушении давно не испытываемого ею одного из немногих доступных ей жизненных удовольствий… Но рыцарь, отвернувшись от нее, спал как убитый. Вдова вздохнула, разочарованная в своих надеждах, и повернулась на бок, спиной к Ульриху…
Пора опять вернуться к молодежи, оставленной нами в довольно спокойной, казалось бы, обстановке, счастливо избегнувшей плена, а может быть, и смерти, не утонувшей в реке и даже не простудившейся. В тот момент, когда Франческо завалился спать, оставив свою подругу, которую он по-прежнему считал мужчиной, колдовством превращенным в девушку, караулить его по-детски безмятежный сон, в тот самый момент, когда Ульрих целомудренно спал около мучившейся его близостью и недоступностью вдовы-гончарихи, Андреа уже полчаса сидела голышом у костра наедине с ночью, рекой и своими мыслями, большую часть которых раскрывать еще преждевременно. Мысли эти, однако, привели ее к заключению, что необходимо узнать, зачем же это монахи пустились в поход. Ей также показалось опасным то, что вначале казалось необходимым, — костер. Ведь они с Франческо прежде всего хотели согреться и высушить промокшую при переправе одежду и как-то упустили из виду, что костер этот может быть увиден монахами с противоположного берега. Если им с Франческо удалось переплыть реку под градом стрел, то почему бы монахам не сделать этого же в спокойной обстановке? Андреа решила залить костер, так, на всякий случай, хотя понимала, что если монахи обратили на него внимание, то они уже давно на этом берегу…