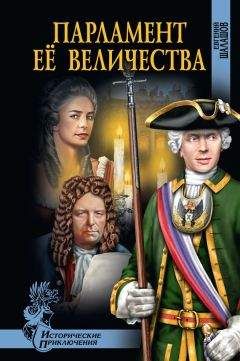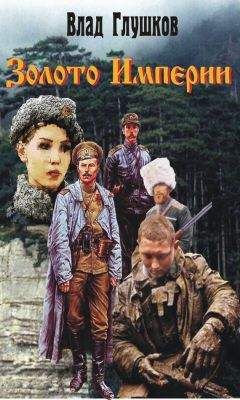– В общем, договорились, – кивнул Андрей преображенцу, беря коня под уздцы. Он даже не соизволил спросить – а согласен тот или нет на перевод. Дурак будет, если не согласится. Но у Митьки было свое мнение.
– Я бы, ваше превосходительство, со всем своим старанием и прилежанием, – начал он, словно дурачась. – Токмо вот одного боюсь. Прапорщики гвардейские рядом с вами долго не живут…
От удивления Андрей остановился и выронил повод. Хорошо, лошадь смирная и усталая – не брыкнется.
– Ты это про что?
– Да я про князя Вадбольского, прапорщика нашего, – усмехнувшись, сообщил Белоликов. – Видел, как вы вместе с ним уезжали.
– Ну и что? – пожал плечами Бобылев. – Было дело, что тут такого? Провожал я князя Ивана, когда его в Туруханск отрядили.
– Так вот и я про то, что ничего, – хмыкнул ответно Митька. – Только и говорю, что провожал господин капрал нашего прапорщика, а потом запропал он. Так может, лучше бы меня сразу в подпоручики, а?
Нахальство Белоликова не разозлило, а рассмешило Андрея. Подойдя к солдату, спросил:
– Ты, сын дворянский, по-французски разумеешь? Нет? А словцо такое французское знаешь? Chantage?
– Шантаж? – наморщил лоб солдат. – Слыхивал. Это когда что-то паскудное знают да деньги за это вымогают, да?
– Вот-вот… – кивнул Бобылев. Рука сама сжалась в кулак, чтобы заехать Митьке в морду, но сдержался. Криво усмехнувшись, сказал: – Как с караула сменишься, к ротному подойдешь. Скажешь – лейб-гвардии Измайловского полка командир, полковник Бобылев велел тебе десяток шпицрутенов всыпать. Смотри, проверю…
– Как так шпицрутенов? – опешил солдат. – За что?
– За дурость, – равнодушно ответил Андрей. Поискав глазами повод, упавший на землю, ухватил его и приладил к луке седла, чтобы лошадь ненароком не наступила.
– Ваше превосходительство, да как же так? – вытаращился солдат. – Поротого – в прапорщики?
– Кто же тебя поротого в прапорщики представит? Да и в сержанты поротого нельзя брать. Не обессудь, – пожал плечами Бобылев и, не слушая оправданий солдата, у которого вмиг порушилась карьера, пошел вперед.
Настроение было испорчено. Думал, офицера толкового нашел, а тут такое… Если он сейчас наглеет, так что потом будет? Вспомнился Ванька Вадбольский, закопанный, как собака. И убитые холопы заодно. Вот кого не было жалко, так это немцев. Полезли в Россию за деньгами и землей – все сразу и получили…
Может, отправить Митьку Белоликова куда подальше? Недавно жаловали датчанина Беринга званием капитан-командора и тыщей рублей денег, за экспедицию. Кажется, новоиспеченный морской бригадир опять собирается куда-то плыть. Люди в таких экспедициях – на вес золота. Но здраво поразмыслив, Андрей решил никуда парня не посылать. Даже пожалел, что велел ему отправиться за наказанием… Хотя нет, получит десяток шпицрутенов, умнее станет. Ну а потом он заберет-таки Митьку к себе, в Измайловский полк. Плевать, что поротый. Формуляр, коли надо, самолично подчистит, капрала, а то и сержанта даст, а там видно будет.
Полковник Бобылев шел прямо по просеке, на звуки выстрелов. А скоро уже пришлось обходить вереницу карет, привязанных лошадей. Челядь. Как же без них-то?
Андрей протолкался сквозь толпу придворных, заполонивших половину просеки, словно стадо коров. Какой-то щеголь – в башмаках и шелковых чулках (это в лесу-то!) – открыл было пасть, чтобы сделать замечание невежде в пропыленном армейском плаще, но так же быстро ее закрыл, умильно заулыбался, освобождая дорогу.
Для охотничьего удовольствия государыни императрицы все было излажено – длинный стол с десятком новейших мушкетов, егермейстеры, чистящие и заряжающие оружие. Ну и, конечно же, «дичь»… Подсвинки. Им, верно, еще и года-то нет.
Бух!!! – рявкнул мушкет, а следом донесся душераздирающий визг подранка-кабанчика…
Государыня радостно вскрикнула, не глядя сунула разряженный мушкет в чьи-то угодливые руки и ухватила новый…
Б-бах-х!..
И опять душераздирающий визг. Придворные щеголи и щеголихи наперебой принялись восхвалять меткость императрицы. Бобылева же передернуло. Он и обычную-то охоту не шибко любил – ну кой черт бегать за кабаном по камышам, коли во дворе свинки бегают? И мясо мягкое, и тиной не отдает. А почто дикую утку бить, ежели домашняя курочка вкуснее? В походе – оно понятно: мясной приварок к скудному казенному харчу! Там – что поймал, то и съел. Но тут… В тесной загородке – двадцать на двадцать саженей, мечутся, сталкиваются друг с другом подсвинки и, забываясь от боли и ярости, пытаются ухватить неокрепшими клыками толстенные жерди… Это ж, верно, по зиме еще кабанчиков ловили, давали подрасти малость, а теперь на убой…
Тьфу! Какая это, к ежовой матери, охота? Сплошное непотребство! Только государыне-царице про то не скажешь.
Андрей стоял и смотрел – вот Анна опять берет ружье, стреляет в беззащитную тварюшку. Попала. Вишь, как личико-то осветилось. Бедная ты бедная… Вроде кабанчика жалко и бабу жалко. «Бабу! – хмыкнул он про себя. – Какая ж она баба, коли царица?!»
А с чего бы государыню-то жалеть? Так вот и стоял бы, как дурак, но Анна, словно почуяв спиной его взгляд, обернулась…
И вот стоит полковник Бобылев, прижимая к груди ревущую государыню…
– Ну, будет тебе, будет, – неуклюже утешал он свою царицу, поглаживая ее по жестким волосам. – Ну, не реви. Вон, народ смотрит…
– Пущай, – сквозь слезы выговорила царица. Подняв лицо, шмыгнула носом: – Ежели кто сболтнет, что государыню в таком виде зрел – в Сибирь поедет, соболей считать…
Ночью, когда радость от встречи схлынула, Анна пеняла:
– Уехал, ни строчки с дороги не написал. Я уж решила, что бросил ты меня…
Андрей только хмыкнул. То, что не написал, это, конечно, его вина, а вот про то, что мог уйти и бросить… Слыхом не слыхивал, чтобы цариц бросали. Может, в каких других царствах (ну, королевствах, какая разница?), так ведь и там нет таких дураков-то…
– А может… – сузила Анна глаза. – Ты там, в Петербурге-то, другую завел? Ну-ка, рассказывай, какова она? Хороша небось, да?
– Ох я, голова садовая! – стукнул себя по лбу Андрей. – Я же тебе ее портрет привез.
– Портрет? Чей? Ее небось… Ну-ка, показывай!
Бобылев метнулся к одежде, сваленной в кучу, вытащил небольшую сумку, где лежало самое ценное. Достал небольшую вещицу – плоскую, о четырех углах, завернутую в платок. Протягивая Анне, сказал: