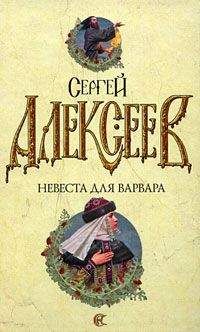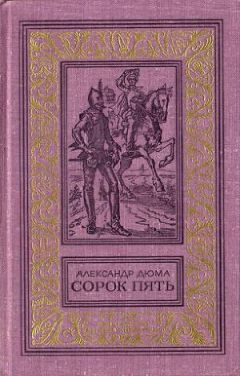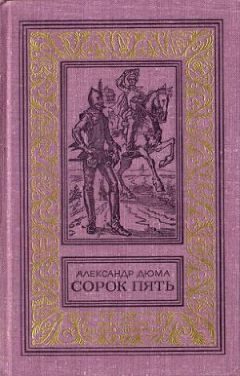— Не плачь, Варвара, — вымолвил капитан, не надеясь быть услышанным.
А она не только услышала — в тот же миг признала его, словно ждала…
— Иван Арсентьевич! — прошептала. — Пресвятая Богородица, спаси и помилуй мя…
И тогда не раздумывая Ивашка затвор откинул, просунулся в лабаз:
— Отчего же ты слезы льешь?
— Страх меня обуял. Молюсь, а жуть от сердца не отступает. Что станется с нами?
— На Индигирку-реку пойдем. К утру нганасаны оленьи упряжки пригонят.
— Где жених мой, князь Оскол? На Енисее сулил встретить…
Головин с Тренкой условились покуда не говорить Варваре, что с князем сталось, дабы сомнений в сердце ее не сеять и от излишних страданий избавить.
— Задержался он в своих землицах, — ответил. — Да верно уж навстречу идет.
— Отчего же задержался? — В голосе ее каприз княжны послышался. — Добро ли слова не держать?
— Должно быть, весть к нему пришла с опозданием, — попытался защитить князя Ивашка. — Больно уж далеко. Индигирка-река.
— А мне уже к матушке да батюшке хочется, — вдруг пожаловалась и примолкла.
У Ивашки сорвалось помимо воли:
— Слово скажи — назад повернем.
— Ты, Иван Арсентьевич, затвор не держи открытым, — вместо ответа попросила она, — норку мою выстудишь. Я тут надышала, а все одно согреться не могу…
Он забрался в лабаз, притворил дверцу и в ворохе песцовых шкурок отыскал только студеную руку ее.
— Нельзя мне назад, — вымолвила доверчиво и обреченно. — Батюшку ослушаться боюсь. Не потехи ради послал в страну Беловодье. Терпеть буду да молиться. А Матушка Богородица услышит зов мой… Отчего у тебя длани огненные, Иван Арсентьевич? Не захворал ли?
— Здоров я, — чужеющими губами вымолвил он.
— А у меня сердечко студится. Со служанкою веселее было, да убежала от меня…
— В чуме она, в нарядах твоих… Варвара вздохнула:
— Се игра между нами была, забава.
— Какая же забава — подвенечное служанке давать?
— Мы с нею игру затеяли. А то уж больно тоскливо да печально было втруме… То я невестою наряжалась, то она. Друг другу косы плели, лентами украшались, драгоценностями всяческими, покровом покрывались. Песни подвенечные пели и разговаривали меж собою как невесте с женихом полагается… Вот и здесь вздумали поиграть. А черед Пелагеи был. И только я нарядила ее да украсила, она и говорит, мол, тьма здесь кромешная, в зеркало бы посмотреться. Сбегаю-ка за свечою к Ивану Арсентьевичу… Спустилась по лесенке и не возвращается. Ждала я, ждала да тоже вниз сошла. Она же в чуме огонь развела, сидит прихорашивается. И будто сама не своя сделалась. Зову, а Пелагея ругается, мол, она ныне невеста. И желает, чтоб я ей прислуживала… Прости, Господи, на все воля Твоя. Сдается мне, рассудок ея омрачился, душевная хворь приключилась. Инно бы как она посмела всерьез невестою себя назвать, коль сие забава?
А у Ивашки не только губы онемели, но и разум очужел, ибо не отважился бы он пожурить Варвару.
— Скажи, так пойду да отниму твои наряды, — предложил. — И приданое, покуда не утратила…
И сам загадал: коль пошлет, знать, все еще держит она слово и хочет пойти за югагирского князя.
Рука княжны потеплела в его ладонях и встрепенулась — ожила, ровно отогретая птица.
— Пускай потешится. Дорога у нас дальняя. А как натешится да придет в себя — сама вернет. Хворых грех обижать…
Он не решился более испытывать ее, ибо опасался спугнуть ожившую надежду, а стоял перед ней на коленях и чуял, как блаженные минуты пролетают вкупе с шорохом крови в ушах.
Варвара осторожно высвободила руку.
— Тепло стало… Ступай, Иван Арсентьевич.
Головин помедлил, не зная, что сказать на прощанье, и когда уже вновь ступил на лестницу, спохватился:
— Как же ты теперь без покрова?
— А в сих краях свету белого нет, — отозвалась она. — Ночь и будет моим покровом…
Свету и впрямь было ровно пороху на затравке: в десятом часу блеснула дымная заря и вновь подступил мрак — не зря места эти прозывались стороной полунощной. На заре девять нганасан пригнали нарты числом восемнадцать в каждую по три оленя запряжено. Все нарты по парам ремнями связаны, и на такую пару один каюр. И привезли они еще всяческую свою одежду — малицы, портки, рубахи, поддевки, женские унтайки* и сапоги-торбаса: все из меха, легкое, добротное, правда, маловатое по размеру, поскольку сами нганасаны — люди низкорослые, зато юркие, веселые и все на одно лицо, вместо глаз лишь щелки. По-нашему несколько слов только знают, а на своем быстро говорят, речь какая-то бурлящая, и все чему-то радуются, улыбаются. Прежде всего они окружили Тренку и, ровно дети малые, руками его трогают, бороду гладят — видно, с почтением относятся, и галдят вразнобой, словно грачи. А тот всё понимает и что-то отвечает им коротко. Каюры же всякий раз руки вскидывают и возглашают:
— Уйя!
И так, пожалуй, час они разговаривали. Наконец юга-гир склонился, обнажив голову, нганасаны все по очереди волосы его погладили, руки вскинули и сказали хором:
— Тийе!
Да разошлись каждый к своим нартам.
Тем временем команда переоделась, и Головин уж было пожалел, что ночью весь товар под лед спустил — за одежду след бы заплатить, и кошель с серебром достал. Однако Тренка упредил его.
— Сие князь Оскол в дар прислал, — говорит. — Спрячь деньги, боярин. Все, что потребно в пути будет, все даром.
— Как же он прислал, коль в срубе сидит? Югагир в тот же миг помрачнел:
— Затворились мои очи. Не ведаю, где ныне князь… Нганасанам одна молва долетела, будто вырвался он из юзилища и нам навстречу пошел. А другая, будто якутский воевода сам отпустил, убоявшись раззора, который творится. И еще слух был, погубили его… Эх, позреть бы, как прежде, по звездам нагадать! Да смерть мне веки держит…
Тут каюры закричали, замахали руками:
— Аинаах!
Тренка повернулся и пошел неуверенно, шаря путь палкой, в которой ранее не нуждался. Сунулся сначала к реке, затем к пожарищу, а от него к оленям и в упряжке запутался. Выбрался кое-как, нащупал нарту, сел, огруз и будто рассыпался.
А Головин в тот же час вспомнил, как он, еще будучи мичманом, по приказу адмирала поднимал со дна Невы шведское военное судно, затопленное бог весть когда и в малую воду мешавшее ходу кораблей. Судно бы давно замыло, будь оно вдребезги разбитым, а тут стояло на дне це-лехонько, разве что мачты срублены, и каждой весной его поднимало льдом и волокло по фарватеру, иной раз до полуверсты. Храбрецы ныряльщики обвязали его канатами, а мореходы во главе с Ивашкой ворота на берегу поставили да стали тянуть. И в три дня выволокли на речную отмель. Пушки-то с сего корабля давно подняли, но любопытно было глянуть, что в трумах сохранилось. Полезли глядеть и много всяческих старых вещиц вынули — ружья столетней давности, компас-матку, угломерный инструмент, пряжки, монеты и прочие медные и железные безделушки. А государь о сем узнал и вздумал сам поглядеть, чтоб узнать, как шведы в прошлом корабли строили. Да сразу поехать не сподобился, и когда явился некоторое время спустя, от судна осталась куча гнилого деревянного хлама. Можно сказать, на глазах сопрел!