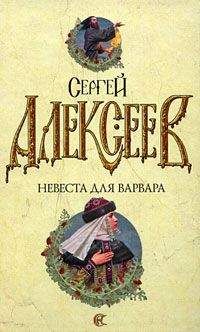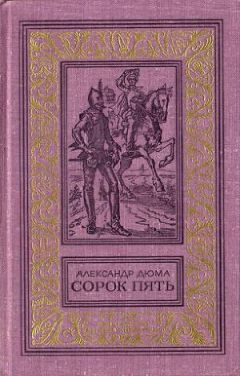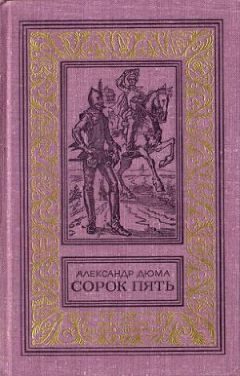Впереди же только и слышалось:
— Хор-хор! Хор-хор!
Так промчались, пожалуй, несколько верст, нарту подбрасывало, мотало по сторонам, и Головин метался то влево, то вправо, чтоб удержать ее на полозьях. Их привычный шорох перерос в свист, снег из-под копыт смешивался в вихре с метелью и забивал глаза, а каюр все гнал и гнал, и было ощущение, будто едут они с горы, которой нет конца и края, словно и впрямь катятся вниз по земному шару. Ивашка изготовился уж тормозить хореем, но тут узрел, как каюр на передней нарте оборотился назад, взмахнул рукой и крикнул что-то. И в тот час пропал в мутной, снежной темноте.
Олени сбавили ход, перешли на привычную рысь, и Головин в первую минуту и думать не мог, что теперь он в вольном плавании: каюр попросту отмахнул ножом ремень, связывающий упряжки. По первости и тревоги он не испытал, ибо сумасшедшая эта скачка взбудоражила чувства, и, когда они улеглись, промелькнула запоздалая мысль: что-то неладное сотворилось! То ли убегали от кого-то и потому гнали, желая оторваться, то ли напротив, догоняли, но отчего каюру вздумалось отсечь упряжку с невестой?
Олени же с рыси по воле своей перешли на шаг, дышали загнанно, тяжко, и тогда Головин взял хорей, взмахнул над их спинами:
— Н-но, пошли! Хор-хор, родимые!
Однако же нарта и вовсе встала, животные хапали снег и к чему-то прислушивались, затаивая дыхание. Тогда Ивашка спешился, оббежал упряжку — нет, на дороге стоят, прокопыченный снег взрезан полозьями передних нарт, и хоть затягивает их поземкой, все одно след хорошо различим. А кроме шума ветра, не слыхать ничего…
Он опасался встревожить Варвару и посему сделал вид, будто все ладно и остановка эта обычная, такое и вчера случалось нередко. И поскольку сидела княжна спиною по ходу, впереди ничего видеть не могла. Позволив оленям отдышаться, Головин сел в нарту и понужнул:
— Хор-хор!
На сей раз они пошли легкой напористой трусцой, коей могли бежать многими часами, и не требовалось подгонять их либо как-то направлять, ища фарватер в сем безбрежном море. Ивашка полагал, что олени, как и лошади, чуют дорогу копытами и уж всяко не отобьются от своего стада, пойдут вслед за передними упряжками. Да и примета, дабы держать нужный курс, верная — ветер все время попутный, толкает в спину, и вряд ли скоро сменится.
Однако с душою непорочной и оттого чуткой, Варвара что-то заподозрила, то вперед поглядит, то назад, а потом вдруг сказала тревожно:
— Кричит кто-то. Будто на подмогу зовет…
Головин уши насторожил — пурга свистит в мелколесье, снег шуршит да костяной колокольчик знай названивает.
— Се ветер воет, — утешил он. — Эко задуло!
— Мне почудилось, Пелагея кричала позади нас… Ивашка башлык скинул, уши навострил супротив ветра — и правда, голоса слышны, но только волчьи. Пугать княжну не стал, отмахнулся:
— Блазнится! Откуда позади Пелагее быть, коль она вперед уехала?
И вроде бы тем успокоил. Зато сам еще более встревожился: зачем каюр связку отсек? Ведь не оттого, что бросить хотел, оставить в метельной тундре одних. Знать, иная надобность — беду от невесты отвести? Ежели долганы опять напали, то пальба бы началась: после гибели каюра-пастуха команда спуску не даст и в плен брать не станет…
Так он мучил себя мыслями, покуда встречь ему из снежного мрака не вылетела нарта. Головин затормозил хореем, ощутив всплеск радости, однако каюр с заснеженной головой — тот ли, что в паре ехал, другой ли, поди их узнай, все на одно лицо, — пробурлил что-то и умчался прочь. И все одно вмиг отмел всяческие сомнения и мысли тревожные: караван шел где-то впереди, раз оттуда принеслась лихая упряжка.
— Хор-хор! — понужнул Иван оленей, а сам с сожалением запоздалым подумал: а добро бы заплутать вдвоем с княжной в сей тундре, затеряться так, чтоб не отыскал никто…
Проехали еще версты три, прежде чем Головин заметил, что олени сами слишком забирают вправо и ветер уже вбок дует. Однако же чутью их доверился, да тут нарта помчалась с горки, так что тормозить пришлось. Через несколько минут спустились в некую долину, где метель была потише и листвяжник повыше — по всему видно, река близко. И верно, скоро олени вынесли на берег и встали, снег хапают, пить хотят, а вода еще не замерзла и далеко, не достать, поскольку забереги* долгие и уж сугробов на склоне намело. Ивашка с нарты соскочил, отвязал Варвару.
— Ножки разомнем!
Побегали вокруг, снег выбили из малиц, озноб согнали. И только тут видно стало, что торной дороги-то нет, след единственный от их упряжки. Хоть и метель, а все равно раскопыченный и нарезанный полозьями ход сразу не заметет.
Когда и сбились, неведомо…
Невесте он ничего говорить не стал, а не снимая упряжи, пустил оленей пастись, отвязал шесты, войлок снял с нарты и принялся чум строить.
— Здесь ночуем, — сказал решительно. — Поди, вечер уже.
Пирамидку из шестов соорудил, кошмой опоясал, снег изнутри выгреб и пол настелил, с дырою для кострища И того не заметил, как в саже лицо себе измазал, ибо войлок-то да и жерди вверху закоптели. Спрятал от ветра Варвару в чуме, сам дров нарубил и, разведя огонь, на часы посмотрел — без малого полночь!
А княжна ручки свои возле костра отогрела, башлык, очи ей закрывающий, откинула и вдруг засмеялась. Ивашка сперва подумал, от огня ей весело сделалось, от того, что радуется — день суровый перемогли, дорогу трудную прошли и вот теперь сидят в тепле, на улице же пурга беснуется, стенки у чума ходят и иной раз отдушину забивает так, что дым к полу жмет. Она же вскинет блестящий взор свой, глянет и еще пуще хохочет, уж закатывается.
И показалось ему что-то нездоровое в ее смехе, тут еще служанка блаженная вспомнилась…
— Что с тобою, Варвара? — насторожился. — Отчего ты эдак взвеселилась?
Л княжна перстом в него указывает и слова вымолвить не может, только слезы вытирает да смеется. Чум низкий, в рост не встать, потому он на четвереньках к ней подобрался, утешить хотел, да более раззадорил — на пол повалилась в изнеможении и заместо смеха лишь всхлипы вырываются, ровно задыхается. Головин взял ее на руки, встряхнул, покачал, думая, что сие есть истерика, кое-как вроде усмирил.
— Ох, Иван Арсентьевич!.. — сказала и опять хохотать.
Он уж что и делать не знает, сунул руку на улицу, достал горсть снега и лицо ей умыл. Варвара охолонулась немного и говорит:
— А теперь и сам умойся, Иван Арсентьевич. Инно не могу я смотреть на тебя!
— Ужель смешной такой?
— Да в жизнь не смеялась эдак! В саже ты весь! Одни глаза белы и зубы, ровно у арапа! Было бы зерцало, позрел бы и сам на ногах не устоял.