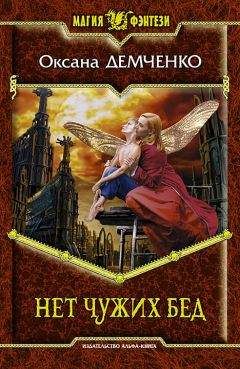эскадренного миноносца «Лейтенант Пущин». Ныне в Севастополе.
Кирилл Иванович, 30 лет, по окончании офицерской Воздухоплавательной школы также в Севастополе и также лейтенант, но Императорского военно-воздушного флота.
Василий – озорник 17 лет, последний год «Отдельных гардемаринских классов».
Дочь Варвара – 23 года, домашняя воспитательница, выпускница Петербургских фребелевских курсов.
И приемная дочь Кира Ивановна, двадцати одного года, привезенная с Алтая как довольно неожиданная находка антропологической экспедиции. И примечательно, что год спустя после смерти законной жены профессора, но уже пяти лет от роду.
Последние трое сейчас в Петербурге с отцом.
Брат профессора Алексей Иванович, статский советник, выходец из Инженерного замка [3], имеет свой кабинет на Дворцовой площади в министерстве Сазонова, но чем там занимается – Бог весть. 50 лет.
Сын его Николай, племянник профессора, 26-летний гвардии пехотный капитан и, по мнению отца, очевидный недоросль. Сейчас в Красном Селе, в лагере.
Такими их застала мировая война.
Война на полмира, пока что странно ликующего на площадях Парижа и Вены, Вашингтона, Лондона и Берлина…
…Практичен энтузиазм на рю Coq Heron, где меркантильные парижане спешат вынести свои вклады из банка Caisse d’Epargne, попутно вынося его дубовые двери. Их тут даже больше, чем на площади Бастилии.
…В толпе безрассудных буршей на мюнхенской площади Одеон ничем не примечателен молодой человек, машущий летней соломенной шляпой. Разве что стрижеными усиками щеточкой, которым предстоит длительная кинематографическая судьба.
…В Праге на Вацлавской площади молодой журналист с особым интересом приглядывается к инвалиду-колясочнику в толпе демонстрантов, который размахивает костылями и вопит: «На Белград!»
…И ночью озарена газовыми огнями Трафальгарская площадь, точно лондонцам не войну объявили, а разрешение на работу пабов после полуночи.
Впрочем, большего энтузиазма, чем на Дворцовой площади 2 августа (20 июля старым стилем), Европа, начавшая войну на сгорание, сгорание полное и дотла, не знала…
Глава 1
Сближение в пространстве и во времени
Петербург. Август 14-го
Потом она часто вспоминала… а может, в прошествии лет это уже казалось ей точно воспоминанием… – что Великой та война стала для нее именно 2 августа 1914 года в Санкт-Петербурге.
В городе, которому Санкт-Петербургом оставалось быть считаные дни, до 31-го…
Дворцовая площадь кажется безлюдной, даже когда толпы провинциальных зевак разглядывают на ней позеленелых богинь на крыше Зимнего, артельщики, переминаясь в лаптях, гадают, за каким из окон дворца мужицкий царь Распутин кушает чай с царицею, городовые топчутся на обычных своих местах, но все рассеяны на пространстве самой большой европейской площади. Друг с другом не то что разойтись – и сойтись-то весьма затруднительно. И, что особенно удивляет, тишина, даже если караульная рота с банными вениками грохочет сапогами в Сенатском проезде или рвет глотку зазывала прогулочной кареты с ряженым лакеем эпохи Елизаветы…
Но сегодня…
Площадь вдруг оказалась не свободнее воскресного загородного омнибуса – так же тесно, душно и потно, несмотря на террасную конструкцию вагона, но даже сердиться на отдавленную пятку никак не выходит – так все весело, сумасшедше и празднично, будто в предвкушении пикника или лодочной прогулки заливом.
Так что домашнюю учительницу, вчерашнюю фребеличку Варвару Иванову, ничто не могло ни смутить, ни разозлить как следует… Ни мосластый локоть чопорной дамы со старомодным лорнетом, втыкавшийся ей в бок с упорством прямо-таки подозрительным, ни фабричный мужичок в огненно-ярмарочной рубахе, угрожающе воздевший «Николая-угодника» в массивном дубовом окладе, ни транспарант «Свободу Карпатской Руси!», загородивший почти весь вид на бурую громаду дворца. Ни даже приторный запах «Шипра» от какого-то «бонвивана», брезгливо отмахивающегося надушенным платочком, когда, конечно, этого не видела Варя…
И это, пожалуй, единственное, что несколько раздражало девушку в летнем белом платье с бантом чуть ниже талии и с кружевными митенками до локтей. Сознавая, впрочем, что не коситься на нее невозможно – уж больно хороша: глаза серые с искоркой, открытый лоб, обрамленный чуть завитыми белокурыми прядками, маленький рот кукольным бантиком – вишнево-алый, и красить нет надобности, – все-таки подумала: «Да с какой стати мне вообще смотреть на кого-то кроме… – сердито поддернула Варя ажурные перчатки, отворачиваясь. – Кроме вот… И когда тут…»
Что именно «вот» и что «тут», она не смогла бы сейчас не только сказать, но даже сосредоточиться на определении. Все, что занимало сейчас Варвару Иванову всю, все ее существо, – все вертелось и кружилось в белокурой головке детским калейдоскопом, лишь на мгновение отражаясь в сознании пестрым рисунком, а в душе – одним только воплем, который она потихоньку, как пар из закипевшего котла, стравливала то приличными барышне «ахами» и «охами», то совершенно звериным повизгиванием. Жаль, что не пели больше! Она бы сейчас и гвардейский «Взвейтесь, соколы, орлами!» подхватила бы, чтоб выпустить восторг, стеснявший душу и дыхание. Хотя, по правде сказать, никогда ей так удивительно и не дышалось – одновременно легко до головокружения и тесно до боли в боку. А тут и вовсе дыхание прекратилось…
…Государь поднял руку, собираясь продолжить, но, вместо того чтобы умолкнуть, площадь инстинктивно взревела, словно стиснутые меха, из которых единым порывом вырвался то ли стон восторга, то ли разочарования, – мало что, в самом деле, было слышно всем, кто находился далее Александрийского столпа, за цепью жандармов. И немногим более видно маленькую фигурку в парадном мундире, перечеркнутом орденской лентой, на балконе, в драпировках алого кумача промеж облупившихся колонн, совершенно потерявшуюся рядом с огромным двуглавым орлом:
«Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мировой славы подняли мы оружие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей империи, боремся за правое дело…»
Напрасно жандарм осаживал рев зверскими гримасами и маханием рук. Разве можно дать команду «молчать!» летней грозе, раскаты которой вдруг и сами по себе грохочут когда и где хотят, встречая всякое, едва расслышанное слово Государя:
«В этом единодушном порыве любви и готовности на всякие жертвы… – доносило неверное эхо, с трудом пробиваясь сквозь рабочий шум библейского столпотворения. – Я черпаю возможность поддерживать свои силы и спокойно и бодро взирать на будущее…»
Даже по истовым лицам гвардейцев ходят судороги – им, должно быть, видно из первых рядов, как текут слезы по щекам императора, хоть он, по обыкновению, и склонил голову, так что виден мысок редеющих волос. И, чуть исподлобья, продолжает, обращаясь к народу:
«Уверен, что вы все и каждый на своем месте поможете мне перенести ниспосланное мне испытание, и что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца…»
Авторские заметки
…Странное дело, но почти в то же самое время