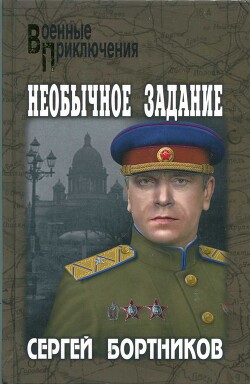канцелярии, в основном импортного производства, для хранения которой, как выяснилось, был оборудован целый склад в одном из подсобных помещений его роскошных апартаментов.
Где Дмитрий Юрьевич набрал столько «хлама» (именно такое определение пришло в голову острого на язык агента), оставалось загадкой. Скорее всего, привез с многочисленных зарубежных симпозиумов, частым участником которых он был в середине и конце славных тридцатых годов.
Какая-никакая, а все же знаменитость в научном мире!
Не забыл Мыльников и семью нашего главного героя, в квартире которого он собирался обосноваться на время поездки, «дабы почтить память моего кумира Федора Алексеевича Фролушкина и хоть немного прикоснуться к обстановке, окружавшей величайшего русского ученого».
Лично для Фигиной предназначался какой-то хорошо упакованный в тонкую и нежную бумагу набор китайской посуды, а «хлопцам» — пластилин и редкостные русские дореволюционные книжки, которых оказалось так много, что можно было хоть сегодня открывать торговлю ими на какой-нибудь из быстро оживающих центральных улиц Ленинграда.
После обеда разбежались по разным комнатам (благо в квартире академика их было аж четыре). Но уже через час стали неспешно собираться в гости — на Карповку. О том, что Прасковья устроит для них прощальное чаепитие, договорились еще вчера.
Описывать, кто как сел, на кого как посмотрел и какие слова при этом произнес, не имеет никакого смысла. Выделю лишь главные тезисы состоявшейся беседы: соседка Татьяна Самойловна так и не нашлась. Пока. И… Победа непременно будет за нами! Тогда и свидимся!
* * *
На ночь, естественно, вернулись «домой». То бишь в квартиру академика Мыльникова на проспекте Карла Либкнехта, которая для командированных стала практически родной.
А там — сразу завалились спать.
Встать ведь предстояло гораздо раньше обычного. В шесть утра. Что, конечно же, не было уж очень большой проблемой ни для Ярослава, ни для Дмитрия Юрьевича.
А вот Альметьева пришлось будить.
Причем — неоднократно.
Ибо сколько его ни поднимали — ровно столько же раз он и отключался снова. Буквально через минуту.
Однако из дому вышли, как и было запланировано, ровно в девять. И вперед — «топ-топусом» (а как же иначе!) до знаменитой Свердловки.
…Виктор Степанович сидел в своем служебном кабинете за рабочим столом и делал вид, что записывает что-то в большущую клетчатую тетрадь. А на самом деле доктор просто «кемарил» после очередной бессонной ночи.
Агенту пришлось громко кашлянуть, чтобы вернуть его к жизни.
— А… Это вы? — наконец поднял усталые мутные глаза военный врач. — У меня все готово.
— И не сомневаюсь, — улыбаясь, протянул руку Плечов. — Где он?
— Васька? У себя. Палата номер шесть, — сообщил доктор, протягивая нашему главному герою свидетельство о выписке, до сего времени хранившееся между листами уже упомянутой тетради.
— По Чехову? — пошутил Ярослав.
— Нет. По нашей госпитальной нумерации, — не понял юмора доктор. — Вот здесь, пожалуйста, распишитесь. На всякий случай. Фамилию разборчиво укажите. Паренек-то, как я понимаю, несовершеннолетний. Может, еще какие претенденты на его душу объявятся?
— Не объявятся. Сирота он. Круглый… — моментально сменил веселый тон на грустный Ярослав Иванович.
* * *
Когда спустя несколько минут Плечов в сопровождении сияющего от радости Василия покинул медицинское учреждение, то первым делом стал искать глазами своего напарника Альметьева. Но того нигде не было…
На ближайшем перекрестке, где, согласно их предварительной договоренности, и должен был находиться Николай (сразу за оградой исторического помещения больницы), виднелся передок какого-то «студебекера». Ярослав уже собрался направиться к машине, чтобы поинтересоваться у ее водителя, устало покуривавшего за рулем, не видел ли тот явно кого-то поджидавшего гражданина в штатском, когда на его плечо легла чья-то рука.
Разведчик обернулся.
Перед ним стоял… Шниперзон.
— Ваш коллега уже в кузове, — сияя, как солнце в майский день, сообщил он. — Я с мальцом лезу туда же… А вы…
— Ты! — оскалил зубы разведчик, таким образом окончательно отдавая предпочтение более доверительному стилю общения.
(С этой секунды от былой конфронтации между ними не осталось и следа.)
— Ты, как старший по званию, отправишься в кабину, — все же не преминул поддеть напоследок своего визави Израиль Соломонович, припоминая тому уж слишком высокомерное поведение в недалеком прошлом. — Тем более что с шофером вы уже знакомы.
— Согласен, — пропустив мимо ушей последнюю фразу, кивнул наш главный герой, не преминув, однако, добавить: — Мог бы подогнать машину прямо на Большой, чтобы мы не били ноги в дороге. Прости за каламбур…
Добравшись до искомого автомобиля, Плечов рванул на себя его дверцу, которая, к счастью, не отвалилась (хотя для достижения такого эффекта было совсем недалеко), и оторопел от неожиданности. Ибо за баранкой «студера» гордо восседал «лихой наездник» Пашуто.
Они обнялись.
— Ну, как тебе моя красотка? — небрежно бросил Семен, запуская двигатель.
— Что или кого ты имеешь в виду? — как обычно в таких случаях, предпочел «прикинуться шлангом» Яра. — Тачку или жену?
— Супругу, конечно.
— Ну, что вам сказать, товарищ ефрейтор? Повезло тебе в жизни. Лелей и береги ее, как знамя полка.
— Согласен… Вот только я сам, так сказать, далек от идеала, — как-то уж больно горестно протянул Пашуто и сразу же привычно впихнул в рот свежую папироску. — Все пороки налицо: пью-курю… Вот только не гуляю!
— И то хорошо. Всему свое время. Взяться за ум — никогда не поздно.
— Думаешь?
— Уверен… Куда ехать, знаешь?
— У меня один годами накатанный маршрут. Ни влево, ни вправо свернуть не имею права…
— О, как ты заговорил! Стихами… Прям Янка Купала.
— Это кто еще такой? — выбрасывая за ненадобностью очередной жеваный-пережеваный мундштук, устало поинтересовался геройский водитель и тут же, что-то вспомнив, исправился: — А… Иван Доминикович… Наш народный белорусский поэт. Он того… Из-под Молодечно, туда — ближе к Литве. — И Пашуто махнул рукой в неопределенном направлении.
— Знаю.
— Год назад вся страна была потрясена его смертью. Кстати, что там у вас в Москве с ним стряслось?
— Разбился, упавши в лестничный проем, — сухо сообщил Ярослав, которому, со слов Копытцева, были хорошо известны все обстоятельства гибели гениального земляка. — С девятого этажа. За десять, между прочим, дней до собственного шестидесятилетия.
— Не царское это дело — в чужом дерьме ковыряться… — философски изрек Пашуто. — Если классики гибнут, значит, кому-то это надо!
— Вот и я о том же, Маяковский. Береги себя… Не высовывайся слишком далеко.
— Не… Я свое место знаю! — честно признался Семен Александрович, которому были чужды всякие карьерные устремления, на которые в конечном счете и намекал его собеседник. А потом несколько неожиданно добавил: — Лучше Пани все равно на всем белом свете не найти!
— Согласен, — откликнулся Плечов.