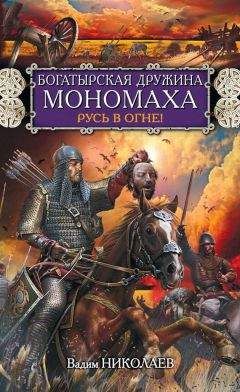Двадцать третьего июля он настиг врага на реке Желань. Но мести не получилось, получился новый позор. Снова русские войска бежали, а убитых было еще больше, чем при Треполе.
Назавтра, в день святых мучеников Бориса и Глеба, грек-митрополит по-русски проповедовал в Софийском соборе.
– Да, это Бог пустил на нас поганых, – говорил он. – Но не их он милует, ибо не может Бог миловать поганых, а нас наказывает, чтобы опомнились мы и удержались от злых дел. Вот почему плачем мы в новый праздник земли Русской.
Закончил он свою проповедь словами:
– Да не посмеет никто сказать, что ненавидит нас Бог! Потому и проявил Он к нам ярость, что больше всех мы почтены им были, но горше всех совершили грехи. Вот и я, грешный, часто Бога гневаю!
– А это, пожалуй, верно, – сказал шепотом один монах Киево-Печерской лавры другому.
– Что, не понравилась проповедь? – ехидно осведомился его собеседник.
– Да полная чушь и словоблудие! Как, впрочем, и все, что он говорит. Разве мы не чтили и не прославляли Бога? И когда это мы презрели Его волю? Если за собой это знает, пусть о себе и толкует. А привел Господь поганых и даровал им победу не за наши грехи, а за грехи великого князя, который в гордыне своей не позвал Владимира Мономаха, решив один победить половцев. Который отверг протянутую руку, когда половцы шли к нам с миром. Несчастливое это имя для Руси. Был когда-то проклятый Богом и людьми Святополк Окаянный, и вот теперь его тезка приводит напасти на Русь.
Монах внимательно огляделся по сторонам, но никто, кроме собеседника, его не слышал.
Довольные победой половцы вернулись к Торческу, и обе половины войска воссоединились. Осада города подходила к концу, и наконец измученные голодом торки открыли ворота.
Войдя в Торческ, половцы подожгли город, а жителей поделили между собой. Много рабов было захвачено и в других местах, поскольку половцы основательно опустошили села Южной Руси.
С осунувшимися лицами, почерневшими телами и воспаленными языками, обдирая ноги о колючие травы, голые и босые, шли пленники по незнакомой земле. Часто один, отвечая на вопрос другого, говорил: «Я из этого города», – другой же откликался: «А я из того села». И плакали они, и казалось им, что не только великий князь, но и сам Господь забыл про них.
В следующем году Святополк решил, что у него есть только один способ избавиться от половецких набегов. Будучи вдовцом, он решил посвататься к старшей дочери Тугор-хана, юной Марджане.
Тугор-хан, вполне довольный захватом Торческа и приобретением несметного количества пленников, согласился на этот брак, а соответственно, и на мир с Русью.
Марджана в сопровождении свиты прибыла в Киев и сразу же очаровала Святополка. Высокая, с длинными ногами, гибким станом и пышной грудью, с шелковистыми черными волосами и черными же глазами, она была совершенно непохожа на тех женщин, которых Святополк знал раньше.
Во время свадебного пира Святополк думал только об одном: скорей бы все ушли и дали ему насладиться Марджаной. Присутствовавший на свадьбе Мономах, прикинувшись более хмельным, чем он был на самом деле, подошел к двоюродному брату и прошептал:
– А ведь ты не девушку берешь в жены, Святополк Изяславич.
– С чего ты взял? – спросил Святополк тихо, но не шепотом.
– Я по глазам это вижу. У нее глаза женщины, познавшей плотскую страсть.
Мономах вернулся на свое место, оставив Святополка в глубоком смятении. Им двигало не просто желание подразнить врага, он действительно отвечал за то, что говорил. Мономах был уверен, что всегда отличит невинную девушку от порченой. Когда он впервые увидел свою будущую жену, английскую принцессу Гиту, мать Мстислава, то сразу понял, что она невинна, и был пленен ее невинностью.
Пир наконец закончился. Святополк и Марджана остались одни в княжеской опочивальне.
Раздев Марджану, хмельной Святополк захмелел еще больше – при виде ее тела. За свою достаточно долгую жизнь он успел заметить, что, хотя обнаженные женщины и вызывают желание, более изящными они все-таки кажутся в одежде. Одежда создавала какую-то загадку. Однако обнаженная Марджана была прекрасней и изящней, чем одетая, и загадка в ней, как ни странно, оставалась.
Она действительно оказалась не девушкой, но зато она умела такое, о чем Святополк, привыкший к простым, грубым ласкам, не имел ни малейшего понятия. Она открыла ему целый мир изощренных восточных наслаждений, в который он погрузился, как в некую волшебную сказку.
– Марджана, – сказал он уже на рассвете.
– Да, мой повелитель, – ответила она (она говорила по-русски с милым акцентом), сладко целуя его в губы и прижимаясь к нему всей своей роскошной грудью.
– Марджана, – повторил он, тая от ее прикосновения, – я знаю, что взял тебя не девушкой, и прощаю тебе это за твое волшебство в любви. Но скажи, кто тебя этому научил? Ведь кто-то тебя научил.
– Отец, – спокойно ответила она.
– Кто? – переспросил потрясенный Святополк.
– Мой отец, Тугор-хан. У нас, половцев, девушку всегда учит любви отец. Или дядя, если отца нет в живых. Просто мы скрываем это. Ты первый русский, кто узнал. Молчи об этом. Если ты проговоришься, я в отместку стану обычной покорной женой, и все мое волшебство исчезнет. Тебе выпало счастье узнать любовь половчанки, так молчи.
Для Святополка это было совершенным откровением. Он слышал истории о далеких народах, где мужчины живут с дочерьми и сестрами, но всегда считал это небылицами. И вот, оказывается, совсем близко, у половцев…
Сознание того, что Марджану развратил родной отец, вдруг страшно возбудило Святополка, и он, казалось бы, уже истомившийся от ласк, вновь овладел ею – просто и примитивно, как он умел с юных лет. Но Марджана извивалась под ним, как змея, и превратила все в какую-то сумасшедшую, неистовую пляску.
Начались безумные дни: он занимался государственными делами, пировал с дружиной, встречался с князьями и боярами, но на самом деле все его мысли были о предстоящей ночи. Марджана никогда не повторялась, все время выдумывая что-то новое. Иногда ему казалось, что они совершают какой-то жуткий грех, но тут же он одергивал себя: ведь это его законная жена, принявшая христианство и обвенчанная с ним в Софийском соборе. В чем тут может быть грех?
Святополк страшно возгордился: обычные женские ласки, которыми довольствовались те, кто окружал его, и которыми когда-то довольствовался он сам, казались ему пресными, как вода в сравнении с брагой. Он один пил эту брагу, он один владел единственным в Киеве черным бриллиантом, и Марджану он не променял бы на все сокровища мира. Даже власть свою он бы отдал ради нее.