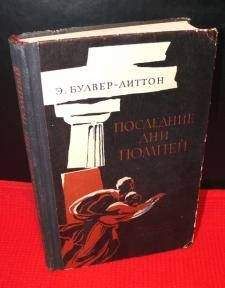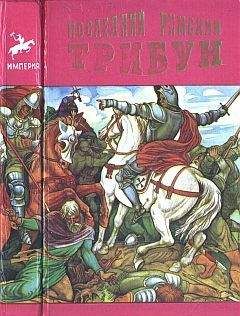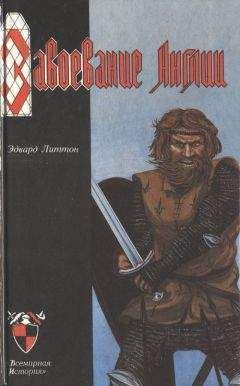— Он все еще безумен или запирается. Нет ни какой надежды спасти его.
— Не говори так, — сказал Саллюстий, который не чувствовал неприязни к обвинителю афинянина, так как не очень верил в добродетель и был скорее тронутнесчастьями своего друга, чем убежден в его невиновности. — Не говори так, мой милый египтянин! Такой добрый кутила должен быть спасен, если есть хоть малейшая возможность. Вакх против Исиды!
— Посмотрим, — сказал египтянин.
Засовы снова загремели, и дверь отворилась; Арбак очутился на улице. Бедная Нидия вскочила на ноги.
— Ты спасешь его? — воскликнула она, стискивая руки.
— Дитя, пойдем со мной. Я прошу тебя ради него, мне нужно с тобой поговорить.
— И ты его спасешь?
Слепая девушка не дождалась ответа, как ни напрягала слух. Арбак уже ушел далеко по улице; она поколебалась и молча пошла за ним.
— Эту девушку надо держать взаперти, — пробормотал египтянин задумчиво, — не то она проболтается про зелье. Ну, а уж тщеславная Юлия не выдаст себя, она будет молчать.
Похороны у древних
Пока Арбак ходил разговаривать с Главком, горе и смерть царили в доме Ионы. Наутро над убитым Апекидом нужно было совершить торжественные похоронные обряды. Покойного перенесли из храма Исиды в дом его ближайшей родственницы, и Иона разом узнала про смерть брата и про обвинение против ее жениха. Сильная боль притупляет чувства, и так как рабы ничего ей не сказали, она не знала подробностей о судьбе Главка, не знала о его болезни, безумии и о предстоящем суде над ним. Она узнала только про обвинение и сразу с негодованием его отвергла; более того: услышав, что обвинитель — Арбак, она не могла уже отделаться от мысли, что убийца — сам египтянин. Но смерть брата требовала от нее совершения обрядов, которым древние придавали огромное значение, и не дала этой уверенности выйти за стены комнаты, где лежал покойный. Увы! Ионе не довелось исполнить тот трогательный долг, который обязывает ближайшего родственника ловить последний вздох любимого человека, когда душа его расстается с телом; ей пришлось лишь закрыть его остекленевшие глаза и искривленный рот, а потом бодрствовать возле тела брата, когда, помытый и натертый благовониями, он лежал в праздничных одеждах на ложе, отделанном слоновой костью, усыпать это ложе листьями и цветами, менять кипарисовую ветвь у порога. И в этих печальных обязанностях, в слезах и молитвах Иона забылась. Одним из самых прекрасных обычаев древних было хоронить молодых на рассвете, при первых лучах зари, потому что, стремясь смягчить жестокость смерти, они воображали, будто Аврора, любящая молодых, уносит их в своих объятиях; и, хотя на похоронах убитого жреца этот миф не мог служить утешением, обычай все же оыл соблюден.
Звезды одна за другой гасли на сером небе, и ночь медленно отступала перед утром, когда печальная процессия выстроилась у дома Ионы. Длинные и тонкие факелы, казавшиеся бледными в первых лучах зари, освещали лица, на которых застыло торжественное и напряженное выражение. И вот послышалась медленная и скорбная музыка, которая соответствовала печальному обряду, и поплыла далеко по пустынным и безмолвным улицам; и хор женских голосов (плакальщиц, так часто изображаемых римскими поэтами) запел под аккомпанемент свирели и миссийской флейты погребальную песнь.
Твой дом украшен ветвью кипариса —
Не розами прекрасными обвит.
Здесь смерть и холод смертный. Покорись им!
Ступай, о странник! Ждет тебя Коцит.
Напрасно мы зовем тебя — не хочет
Смерть отступить. Напрасно кличем мы!
Твои венки увянут в Доме Ночи,
Цветы засохнут в Царстве Вечной Тьмы.
Ни песни удалой, ни разговора,
Ни солнечной полдневной красоты…
Ты Данаид печальных встретишь скоро
И алчных псов! И повстречаешь ты
Сизифа в споре с вечною горою —
На скалах, с вечным камнем на плечах,
Чудовищного сына Каллирои[78]
И Лидии правителя.[79] Впотьмах
Бредут они. Искривлены их лица
И призрачен фигур ужасных ряд. .
Давно ждет челн. Пора и в путь пуститься.
Челн ждет давно.[80] Закончим же обряд.
Спеши! Не мешкай! Средь деревьев сонных
Приют ушедших, город погребенных.
Скорбящие, ступайте по домам!
Ступайте все — велит умерший вам.
Когда звуки пения замерли, провожающие стали по обе стороны дверей; тело Апекида вместе с ложем, застланным пурпуровым покрывалом, вынесли из дому ногами вперед. Распорядитель печальной церемонии, сопровождаемый факельщиками в черном, подал знак, и процессия двинулась.
Впереди шли музыканты, играя медленный марш. Эту тихую, торжественную музыку то и дело перекрывали громкие тоскливые завывания похоронной трубы; следом шли наемные плакальщицы, распевавшие погребальные песни; женские голоса смешивались с голосами мальчиков, чей юный облик еще больше подчеркивал контраст между жизнью и смертью: зеленый лист рядом с увядшим. Но шуты, актеры и даже главный среди них, чьей обязанностью было представлять умершего (без них обычно не обходились похороны), не были допущены сюда, чтобы не будить ужасные воспоминания.
За плакальщицами шли жрецы Исиды в своих белоснежных одеждах, босиком, держа в руках пучки колосьев, а следом несли изображения умершего и его мфинских предков. За носилками шла, окруженная своими рабынями, единственная родственница покойного, с непокрытой головой, распустив волосы, бледная как мрамор, но задумчивая и тихая. Лишь изредка ни ходила она из мрачного оцепенения, закрывала лицо руками и рыдала; она не проявляла свою печаль пронзительными причитаниями, отчаянными жестами, как делали люди, горевавшие менее искренне. В тот век, как и во все остальные, истинное горе было глубоким и тихим.
Процессия, пройдя улицу, вышла за городские ворота и очутилась у неогороженного кладбища, которое можно видеть и сейчас.
Как алтарь, сложенный из неоструганных сосновых досок, меж которыми помещались горючие материалы, высился погребальный костер; а вокруг стояли, поникнув, темные и мрачные кипарисы, которые всегда сажали подле могил.
Как только носилки были опущены на этот костер, провожающие стали по обе его стороны. Иона подошла к покойному и несколько минут неподвижно и безмолвно стояла возле него. С лица Апекида уже сошло выражение муки, которое оставила на нем насильственная смерть. Навеки улеглись страхи и сомнения, утихло кипение страстей, исчез благочестивый трепет, надежда и страх перед будущим — от всего этого освободилась грудь юноши, стремившегося к святой жизни. Что же осталось в ужасной безмятежности этого непроницаемого чела и бездыханных губ? Сестра смотрела на него, и все стояли не шевелясь; было что-то ужасное и вместе с тем умиротворяющее в этом молчании. И вдруг резко и внезапно его нарушил громкий, страстный крик — это вырвалось наружу долго сдерживаемое отчаяние.