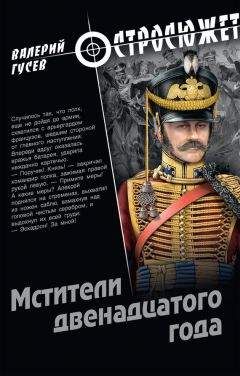Едва стали закусывать, Волох спохватился:
— А кучер твой, Лексей Петрович? Ну-ка, Алешка, кликни его сюда. Не по-казацки человека с дороги за стол не посадить.
Возница сперва конфузился, но после двух чарок осмелел и начал кушать. Так, будто его три дня не кормили.
Параша приглядывала за столом, подкладывала, наливала, словом, следила, чтобы тарелки и чарки надолго не пустели.
Волох пил как прежде, лихо и не пьянея, только все чаще начал вспоминать, как рубил и стрелял француза под командой Щербатовых. Иной раз смахивал крупную слезу и молча глядел в донышко стакана.
…Засиделись до темна. Вышли из хаты. Закурили трубки. Прямо над хатой, словно только что вылез из печной трубы, сиял в донском небе ясный месяц. «И как он сажей не перемазался», — подумал Алексей, поняв, что уже сильно во хмелю.
— Они стрелялись? — тихо спросил Волоха.
— Стрелялись, Лексей Петрович. Батюшка ваш, надо сказать, ровно чувствовал что. Как бы начал за собой прибирать. Настасее цепочку вот подарил, мне с той цепочки — часы. Парашу выкупил. — Волох сел рядом с Алексеем на приступочку. — Тут в самый раз хозяин Парашин вернулся, помещик — не вспомню, как звали. Он в южных губерниях до того спасался. Ну а батюшка ваш, меня с собой взявши, к нему нагрянул. Мол, продай девку Парашку, больно она мне глянулась. Тот ни в какую: мол, самому мила. Ну, батюшку вам ли не знать: пистолет в лоб, без дурного слова. Тот и рад уже даром девку отдать. Бросил ему Петр Алексеич, светлой памяти, пятьсот рублей.
«Хорошая цена», — горько усмехнулся про себя Алексей. Он помнил, что до войны «рабочая девка» по ста пятидесяти шла.
— …Стало быть, Лексей Петрович, не уберег я нашего командира, вашего батюшку.
— Не казнись… Петро. Война шла…
— Кабы война виной-то. — Волох так прерывисто вздохнул, будто собака провыла. — Батюшка ваш со всем сердцем майора-то побил. И рукой, извините, по лицу, а потом ножнами… пониже. Сзади. Денис Василич все уладить хотел. И никак не допускал, чтобы они встретились. Спеш и л майора в отставку убрать. Да вот не успел. — Волох встал. — Дождитесь, Лексей Петрович, я быстро вернусь.
Быстро вернулся. С двумя полными чарками и закуской на деревянном кружке.
— Примите. Я чай, у вас тоже в горле пересохло. Да в сердце тож.
Выпили.
— Ну дальше что ж? Выгоняли мы из леса банду шаромыжников. По снегу еще было, весна ранняя. Схватились, они жестоко бились. Под князем да подо мной лошади пали. Стали выбираться. А сапоги-то у князя, помните, королевские? Они, стало быть, парадные оказались, шибко тонкой кожи, не доглядел Волох. Застудился князь. Кашель его бьет, из носа льет, глаза плачут. Я ему водки — и такой, и с медом, и с перцем… Никак не лечится. Вот тут-то и угадал майор, князем побитый. Вскочил батюшка ваш на ноги — шатает его. «Волох! — кричит. — Пистолеты!». Впору хоть силком его держи. А он: «Другой оказии может не быть. Стреляться сей же час». Заруцкой прибежал, он и его отмел. Тот — к майору. Мол, повременить бы, сильно болен полковник. «Нечего временить, — отвечает. — Мне через три дни в столицу ехать». Настасея! Неси-ка жбан его благородию! И огурец покрепче.
Всколыхнулось, конечно, в душе. Боль и горечь поднялись. Все былое опять в памяти воскресло, защемило сердце.
— Словом, не уберег я Петра Лексеича. Последнее слово его было: «Я ему, Волох, прямо в лоб влеплю!».
— Не мучился? Рана какая была?
— Точно в сердце… Вот ведь как бывает, этот майор… — Волох сдержался, не выругался. — Этот майор за всю войну один только раз и выстрелил. И в самое сердце попал. — Волох положил руку Алексею на колено. — Но вы, Лексей Петрович, местью за батюшку особо не тревожьтесь. Майор не долго его пережил. Два дни всего-то.
— Ну-ка, ну-ка? — Алексей придвинулся поближе. — Расскажи.
— Да что рассказать? Я мало про то знаю. Этот майор, промеж нас про него говорили: в мирное время с ним горе, а на войне — беда, он от боя бегал, как таракан от света, а тут вдруг под перестрелку попался. И ему картечная пуля ровно в лоб угодила. Как князь Петр Лексеич обещались. Оно и сказать: Бог шельму метит.
— Картечная ли? — улыбнулся в темноте Алексей.
— Как есть, ваше благородие.
— Не пистолетная?
— Картечь!
— А ну, перекрестись!
— Как Бог свят. — Креститься, однако, не стал. — По всякой пустоте креститься грех, Лексей Петрович.
— Прямо в лоб, а не в затылок?
— Прямо в лоб. — Волох, похоже, немного обиделся.
Эх, сердце солдатское! Волоху ли не знать, что за убийство нижним чином старшего офицера даже не расстрел — виселица положена.
Алексей обнял его за плечи, ткнулся куда-то в шею горячей щекой. Так и просидели почти до света.
— Отдохнуть бы вам, Лексей Петрович. А то погостили бы. У меня бредень есть, порыбачим. Охота хорошая. Я ведь тех королевских борзых тоже прибрал. Они пáрные оказались. Помет от них хороший пошел. Погостили бы…
— Не могу, Петро. Я ведь у вас по-надобности. Рекрутский набор провожу.
— А может, и мне с вами?
— Куда тебе от такого семейства? Да я и в отставку прошусь.
— Светает. Пойдемте до хаты. Что-то вам покажу.
В хате уже прибрано со стола. Но спать не ложились, только возница, сытый и пьяный, похрапывал на лавке.
Волох отпер сундук, поигравший музыку, достал из него часы в берестяной коробочке и длинную шпагу, завернутую в чистую холстину.
— Вот, Лексей Петрович, наследство ваше. Сберег.
Часы Алексей отодвинул сразу, лишь подержав в руке:
— Это тебе от батюшка подарок. А за шпагу — особое мое спасибо.
Провожать вышли все. Параша жадно расцеловала его лицо, обдав жаром дородного тела. Волох при том одобрительно, без ревности, покряхтывал.
Садясь в коляску, Алексей задел ногой рогожный куль.
— Это еще что?
— Это в дорогу. Окорочок там, сальца немного — с полпуда, орехи. Стало быть, чтобы не скучно ехать. Прощайте, Лексей Петрович. Храни вас Господь!
Не успели выехать на тракт, сзади густо запылило. Кто-то нагонял верхом. Алешка на Грозном. Нагнал, протянул Алексею деревянную флягу.
— Батя наказал. Вспомнил, что у вас теперь этого нет… как его? Погребца. Говорит, никак не можно в дорогу без горилки. Прощевайте, Лексей Петрович.
— Прощай… сынок, — трудно проговорил Алексей. Толкнул возницу: — Гони!
Вскоре Алексей вышел в отставку. Стал усердно заниматься имением. Выдал Оленьку замуж, за доброго человека — соседа-помещика и ополченца. Человека смирного и заботливого.
Гагарины от дочери, брошенной французом, лишь миновала ему опасность, отказались, выделив ей небольшое содержание. Она вместе с сыном поселилась у Щербатовых. В каком уж качестве — Бог весть. Оленька принимала в ней большое участие, Наталья Алексеевна была с ней холодна.