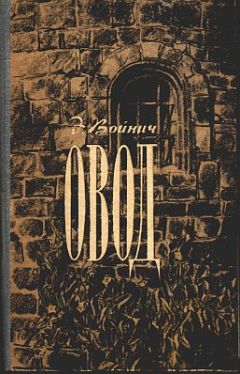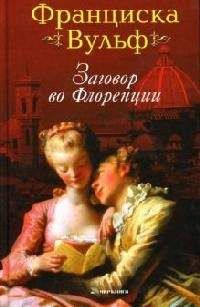Овод сел на койку и стал есть. Хлеб не вызывал в нём отвращения, как остальная тюремная пища, а поесть надо было, чтобы поддержать силы. Прилечь тоже не мешает – может быть, удастся заснуть. Начинать раньше десяти часов рискованно, а работа ночью предстоит трудная.
Итак, padre всё-таки думал устроить ему побег. Как это похоже на него! Но он никогда не согласился бы принять его помощь. Никогда, ни за что! Если побег удастся, это будет делом его собственных рук и рук товарищей. Он не желает полагаться на поповские милости.
Как жарко! Наверно, будет гроза. Воздух такой тяжёлый, душный. Он беспокойно повернулся на койке и подложил под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом вытянул её. Как она горит! И все старые раны начинают ныть… Почему это? Да нет, не может быть! Это просто от погоды, перед грозой. Он заснёт и отдохнёт немного, а потом возьмётся за напильник…
Восемь прутьев – и все такие толстые, крепкие! Сколько ещё осталось? Вероятно, немного. Ведь он уже пилит долго, бесконечно долго, и потому у него болит рука. И как болит! До самой кости! Неужели это от работы? И та же колющая, жгучая боль в ноге… А это почему?..
Он вскочил с койки. Нет, это не сон. Он грезил с открытыми глазами, грезил, что пилит решётку, а она ещё даже не тронута. Вот они, прутья, такие же крепкие, целые, как и раньше. На далёких башенных часах пробило десять. Пора приниматься за работу.
Овод заглянул в глазок и, убедившись, что никто за ним не следит, вынул один из напильников, спрятанных у него на груди.
* * *
Нет, с ним ничего не случилось – ничего! Все это одно воображение. Боль в боку – от простуды, а может быть, желудок не в порядке. Да оно и не удивительно после трех недель отвратительной тюремной пищи и тюремной сырости. А ломота во всём теле и учащённый пульс – отчасти от нервного возбуждения, а отчасти от сидячей жизни. Да, да, так оно и есть! Всему виной сидячая жизнь. Как он не подумал об этом раньше! Надо отдохнуть немного. Боль утихнет, и тогда он примется за работу. Через минуту-другую всё пройдёт.
Но, когда он сел, ему стало ещё хуже. Боль овладела всем телом, его лицо посерело от ужаса. Нет, надо вставать и приниматься за дело. Надо стряхнуть с себя боль. Чувствовать или не чувствовать боль – зависит от твоей воли; он не хочет её чувствовать, он заставит её утихнуть.
Он поднялся с койки и проговорил вслух:
– Я не болен. Мне нельзя болеть. Я должен перепилить решётку. Болеть сейчас нельзя, – и взялся за напильник.
Четверть одиннадцатого, половина, три четверти… Он пилил и пилил, и каждый раз, когда напильник, визжа, впивался в железо, ему казалось, что это пилят его тело и мозг.
– Кто же сдастся первый, – сказал он, усмехнувшись, – я или решётка? – Потом стиснул зубы и продолжал пилить.
Половина двенадцатого. Он всё ещё пилит, хотя рука у него распухла, одеревенела и с трудом держала инструмент. Нет, отдыхать нельзя. Стоит только выпустить из рук этот проклятый напильник – и уже не хватит мужества начать сызнова.
За дверью послышались шаги часового, и приклад его ружья ударился о косяк. Овод перестал пилить и, не выпуская напильника из рук, оглянулся. Неужели услышали? Какой-то шарик, брошенный через глазок, упал на пол камеры. Он наклонился поднять его. Это была туго скатанная бумажка.
* * *
Так долго длился этот спуск, а чёрные волны захлёстывали его со всех сторон. Как они клокотали!
Ах, да! Он ведь просто наклонился поднять с пола бумажку. У него немного закружилась голова. Но это часто бывает, когда наклонишься. Ничего особенного не случилось. Решительно ничего.
Он поднёс бумажку к свету и аккуратно развернул её.
Выходите сегодня ночью во что бы то ни стало. Завтра Сверчка переводят в другое место. Это наша последняя возможность.
Он разорвал эту записку, как и первую, поднял напильник и снова принялся за работу, упрямо стиснув зубы.
Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми прутьев были перепилены. Ещё два, а потом можно лезть.
Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезни. В последний раз так было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех пяти ночах. Но тогда это наступило не сразу; так внезапно, как сейчас, ещё никогда не было.
Он уронил напильник, воздел руки, и с губ его сорвались – в первый раз с тех пор, как он стал атеистом, – слова мольбы. Он молил в беспредельном отчаянии, молил, сам не зная, к кому обращена эта мольба:
– Не сегодня! Пусть я заболею завтра! Завтра я вынесу, что угодно, но только не сегодня!
С минуту он стоял спокойно, прижав руки к вискам. Потом снова взял напильник и снова стал пилить…
Половина второго. Остался последний прут. Рукава его рубашки были изорваны в клочья; на губах выступила кровь, перед глазами стоял красный туман, пот лил ручьём со лба, а он все пилил, пилил, пилил…
* * *
Монтанелли заснул только на рассвете. Бессонница измучила его, и первые минуты он спал спокойно, а потом ему стали сниться сны.
Сначала эти сны были неясны, сбивчивы. Образы, один другого причудливее, проносились перед ним, оставляя после себя чувство боли и безотчётной тревоги. Потом он увидел во сне свою бессонницу – привычный, страшный сон, терзавший его уже долгие годы. И он знал, что это снится ему не в первый раз.
Вот он бродит по какому-то огромному пустырю, стараясь найти спокойный уголок, где можно прилечь и отдохнуть. Но повсюду снуют люди – они болтают, смеются, кричат, молятся, звонят в колокола. Иногда ему удаётся уйти подальше от шума, и он ложится то среди густых трав, то на деревянную скамью, то на каменные плиты. Он закрывает руками глаза от света и говорит себе: «Теперь я усну». Но толпа снова приближается с громкими возгласами и воплями. Его называют по имени, кричат ему: «Проснись, проснись скорее, ты нам нужен!»
А вот он в огромном дворце, в богато убранных залах. Повсюду стоят пышные ложа, низкие мягкие диваны. Спускается ночь. Он думает: «Наконец-то я усну здесь в тишине!» – и ложится в тёмном зале, и вдруг туда входят с зажжённой лампой. Беспощадно яркий свет режет ему глаза, и кто-то кричит у него под ухом: «Вставай, тебя зовут!»
Он встаёт и идёт дальше, пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, точно раненный насмерть. Бьёт час, и он знает, что ночь проходит – драгоценная, короткая ночь. Два, три, четыре, пять часов – к шести весь город проснётся, и тишине наступит конец.
Он заходит в следующий зал и только хочет опуститься на ложе, как вдруг кто-то кричит ему: «Это ложе моё!» И с отчаянием в сердце он бредёт дальше.