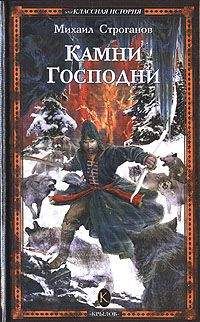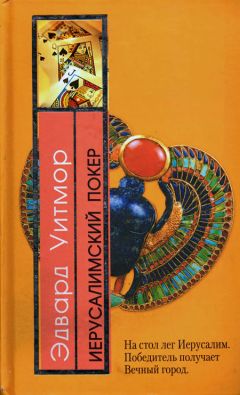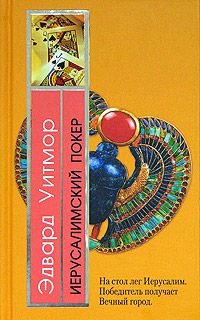На этих словах слушатели одобрительно загалдели, кивая головами и довольно цокая языками. Они с нетерпением ждали, что мутриб начнет, словами обнажая дев, расписывать нетронутые прелести красавиц, выставляя их на всеобщее обозрение, подобно высоко ценимому и ходовому товару. Но юноша, потупив взор, принялся выводить печальную мелодию на свирели, под которую обезьянка стала сокрушенно кланяться и простираться перед зрителями ниц.
Еще, погонщик проворный, скажи, как душу сберечь,
От своих помыслов тайных, разящих в сердце, как меч.
Богом клянусь, я бесстрашен и презираю смерть!
Единственное пугает — не видеть, не ждать, не сметь…
Раздосадованные таким окончанием стихов, люди принялись расходиться по своим делам, не пожелав ничем вознаградить мутриба за его ремесло.
Через несколько дней на этой же небольшой, забитой торговым людом базарной площади Джабиру довелось увидеть, как за воровство отрубали мутрибу руку, а жалобно кричащей обезьянке свернули шею, а после выкинули как мусор.
***
Всю прошедшую ночь промаялся Иоанн в тяжелом неотвязном сне, будто бы представился он здесь, в Псково-Печорской обители, да не сам умер, а кто-то из опричников возлюбленных спящим придушил его малой атласною подушечкой, расшитой державными орлами да серафимскими ликами по краям.
Чудно Иоанну от того, что ходит возле живых нагим, прямо как блаженный Василий-нагоходец, а стыда от этого сам не имеет, и живые не смущаются тому, что перед ними предстает царь в срамоте. Ходит Иоанн, а сам размышляет, как ему нагим на Суд Божий являться, дозволят ли, ради былой славы государевой. Или погонят взашей, как изгонял из Едема грозный ангел срамника-прародителя Адама?
И видит Иоанн у монастырских ворот играющих ребятишек, отчаянных драчунов-сорванцов, играющих в салки посреди валявшихся во дворе побитых старцев соборных. «Вот и я, убогий да злосмрадный, не оставлен без доброго знамения!» — Иоанн радостно побежал к детям, надеясь вместе с ними пройти сквозь суровую ангельскую стражу, потому что таковых есть Царствие небесное.
Переставшие пятнать друг друга мальчишки сбились в юркую говорливую стайку, и начали громко считаться:
Катилася торба
С высокого горба;
В этой торбе
Хлеб и пшеница,
Вино да водица;
С кем хочешь,
С тем поделися!
— Со мною, со мною поделитися! — благоговейно закричал Иоанн, протягивая деткам восковые ладони.
— Нет, не дадим! — засмеялись в ответ дети. — Срамной ты, через тебя и нам лихо пристать сможет!
— Тьфу на вас, бесенята! — закричал на детей Иоанн. — Али не знаете, с кем говорите?
— Не ведаем того, нагоходец, — в один голос повинились дети.
— Деточки милые, да я ж царь ваш! — прослезившись от умиления, воскликнул Иоанн.
— Ирод, Ирод… — испуганно зашептались дети, вставая перед царем на колени. — Помилуй нас, невинных деток, Христа ради.
Дети спешно крестились и, отдавая царю земные поклоны, тихонько плакали.
— Ну, не скрывайте, чего разделить хотели? — Иоанн ласково теребил детей по шелковистым волосам, и целовал каждого в лоб, словно покойника. — Али закона не знаете, что все лучшее надобно без утайки целиком царю отдавать.
Дети несмело откинули перед Иоанном лежавшую на снегу рогожку:
— Тут, батюшка, голова игумена Корнилия, да старца Васьяна Муромцева, да келаря Курцева Дорофея. Бери государь, какая более тебе приглянется, мы себе новые сыщем!
Царь в ужасе отпрянул от детей и бросился бежать прочь, но земля уже не держала его, разверзаясь под ногами бесконечною огненною пастью…
Восстав от сна, Иоанн, не облачаясь, в одном исподнем кинулся в храм и, упав на колени возле образа архангела Михаила, возопил: «Великий, мудрый хитрец, никто не может твоея хитрости разумети, дабы скрылся от твоея нещадности. Святый Ангеле, умилися о мне грешнем и окаяннем…»
***
Подле Никольской церкви, что служила главным входом в Псково-Печорскую обитель, пьяные опричненные воротники устроили себе волчью потеху. Выкопав у церковных врат глубокую яму и посадив туда матерого, они таскали из ближней Тюремной башни иноков и на веревках спускали их к зверю, дабы узреть, во спасение чьей святости сойдут с небес заступники ангельские.
— Так мы всю оставшуюся братию переведем, а святого не сыщем! — недовольно пробурчал здоровенный, с выбитыми зубами в кулачных боях опричник Юшка Игнатьев. — Слышь, Карамышка, а может, того, зря радеем? Может, здесь не монахи, а одни курвы черноризные живут?
— Мне почем знать? — огрызнулся Карамыш. — Ты давай-ка не языком чеши, а спорее веревку тягай. Не ровен час, насытим серого, тогда плакали наши ангелы!
— Да и на что тебе они сдалися? Эка невидаль! — стоящий рядом опричник Первуша плюнул в бесившегося волка. — В церкви на каждой стене по пять штук намалевано. Иди, коли нужда, и дивись!
— Дурень! — Карамыш презрительно посмотрел на воротника. — Да только бы явился небесный заступник! Мы бы уж не сплоховали, сразу, как водится, в ноги, мол, прости и помилуй нас, людей подневольных, Христа ради.
— И чего с того? Прощения на язык не положишь! — в ответ рассмеялся Первуша. — Рубль бы за какого угодника платил, тогда хоть бы старания ваши не пропали даром!
— Ты свое серебро поганое попроси, — Карамыш бросил веревку и, кряхтя, подхватывая замученного инока под руки, ответил опричнику с нескрываемым презрением. — Мне денег не надобно. Я слово заветное выпытать хочу, такое, что ни смерть, ни хворь, ни ярость государева не страшны будут. От всего тем словом уберечься сумеешь, яко трое святых устояли в печи огненной!
— Неужто ангел ведает про то слово? — усомнился Юшка. — Мыслю, что един Господь…
— Тетеря тоже мыслил, да тут выстрел! — обрезал Карамыш. — О сем сам пророк Даниил рек!
— Ну, коли пророк, — Первуша схватился за окровавленную ногу монаха, — тоды, ради словца заветного, я тако ж не прочь потрудиться!
Опричники согласно подтащили мертвого к мусорной куче, сваленной подле монастырской стены и, закидав тело снегом, живо направились к Тюремной башне за новым страдальцем.
— Глянь, — Первуша протянул руку, указывая на светлеющую восточную сторону, — кажись фигура какая проявилася!
— Где? Кто идет? — вскрикнул возбужденно Юшка, подхватывая бердыш.
Карамыш пристально посмотрел на восток и раздраженно плюнул Первуше под ноги:
— Черти тебе спросонья мерещатся, харя ты некрещеная!
— Да как же, братцы, сам видел, истинный крест! — опричник удивленно посмотрел на пустынную снежную гладь и перекрестился. — Пешего путника вон там заприметил!