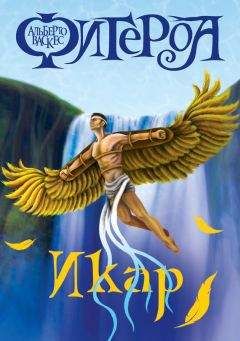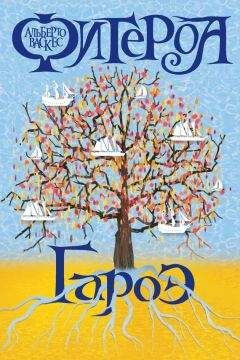У Мэри Эйнджел появились седые волосы.
Девять дней ужаса — это слишком долгое страдание, а ни для кого не секрет, что нет ни такого дикого зверя, ни воображаемого чудовища, которые могут нагнать столько страха, как бездна: она могла бы поглотить всех жителей планеты — и не подавилась бы.
С незапамятных времен падение в пропасть было самым страшным кошмаром для большинства людей, сознающих, что сила притяжения — это единственная сила, с которой бесполезно бороться.
Мечта о полете рождается из давнего желания преодолеть эту силу и этот страх. И какими бы хитрыми ни были создаваемые летательные аппараты, в душе человека все равно гнездится уверенность в том, что рано или поздно всемогущая рука всемирного тяготения вернет отважившегося взлететь в реальность — на землю.
Измотанные, подавленные, опаленные солнцем, они даже не чувствовали своих тел и совсем не ощущали голода.
Кто может испытывать голод, когда его вот-вот сожрет лев?
Кто думает о еде, когда его осаждает легион призраков?
Какая физическая потребность выдержит поединок со смертью?
А падение с восьмидесятиметровой высоты означало такую же верную гибель, как и с тысячеметровой.
Погибнешь все равно, а славы — намного меньше.
Сидя на карнизе и наблюдая за цаплями, которые возвращались в гнезда и галдели, прежде чем погрузиться в сторожкое безмолвие, в которое ночные тени погружают большинство птиц на свете, Мэри Эйнджел спрашивала себя, почему же все-таки она не поддалась первому порыву и не бросилась в пропасть с вершины тепуя.
Может, тогда бы ее муж и эти двое бедных парней уже спаслись.
Может, без такой обузы, как она, они сумели бы найти более легкий путь.
Может быть!..
Она с жалостью посмотрела на них.
Куда девалась их прежняя крепость!
Их завидная молодость!
Теперь это были живые мощи: гора вымотала им всю душу и одновременно содрала кожу и потушила блеск в глазах.
«Господи, Господи! — причитала она про себя. — Почему ты позволил нам добраться сюда, если не хотел, чтобы мы спаслись?»
Завывал ветер.
Их худший враг.
Он мог сдуть их с узкого карниза, словно простые сухие листья.
А с заходом солнца этот ветер еще и принес с собой холод.
Ночью на Мэри Эйнджел напал страх, но не страх смерти, которая вот уже несколько дней была ее верной спутницей, а страх в последний момент потерять веру в Бога, перед судом которого она вскоре должна предстать.
Она знала, что, если умрет с проклятием на устах, значит, потеряет нечто большее, чем жизнь, однако все они продолжали подвергаться таким немыслимо суровым испытаниям, что наверняка уже эту веру можно было подорвать даже в намного более верующем человеке, чем она.
Ветер дул все сильнее.
Казалось, он хотел раз и навсегда оторвать их от горы.
Король Неба сунул в щель между камнями левую руку — невзирая на опасность ее сломать, — а другой обхватил Мэри и притянул ее к себе, приготовившись всю ночь сопротивляться порывам приближавшегося урагана.
Он был намерен во что бы то ни стало спастись и спасти любимую женщину, а если ветру вздумается ее отнять, пускай сначала вырвет ему руки.
На этот раз сон не пришел ему на помощь.
Только дрема.
И короткие мгновения отключения сознания, за которыми следовали долгие часы бдения во тьме.
На какие-то мгновения он погружался в приятные воспоминания, однако затем их сметала черная реальность пропасти. Сейчас она была невидимой, но такой близкой и ощутимой, что даже ночная темнота не могла отогнать мысль о ней.
Это была жуткая ночь.
Такая же страшная, как и любая из предыдущих, с той лишь разницей, что сейчас он еще не представлял себе, какой ужас ждет его впереди.
На рассвете Мэри начала бредить.
Смерть приближалась семимильными шагами.
Джимми Эйнджел повернулся к венесуэльцам со слабой надеждой, что утро принесло им достаточно сил, чтобы предпринять заключительную попытку, но тотчас же понял, что бедняги не в состоянии даже встать на ноги.
Он прислонился затылком к каменной стене, тихонько провел рукой по волосам женщины, лежавшей без сознания, прикрыл глаза, и тут, неизвестно почему, в памяти всплыли фразы, записанные Диком Карри в его замусоленных тетрадках:
Кто выкопает мне могилу, кто вырежет на кресте мое имя?
Я люблю этот край, хотя знаю, что в итоге он меня погубит, так же, как любил Кэтти, зная, что в конце концов она меня бросит.
Он так и не понял, сколько времени просидел неподвижно с закрытыми глазами, но, когда открыл их вновь и обвел взглядом пустынный пейзаж, сердце у него дрогнуло.
На расстоянии чуть больше километра группа голых дикарей пересекала равнину.
— Эй! — крикнул он. — Эй! Посмотрите туда!
Густаво Генри и Мигель Дельгадо, словно возвращаясь из преисподней, отреагировали не сразу, но все же кое-как очухались и, сделав над собой усилие, вгляделись в ту точку, куда он показывал.
— Кто это такие? — спросил американец.
— Индейцы-людоеды, — выдавил из себя Мигель Дельгадо.
— Ты уверен?
— Нет! Как я могу быть уверен? Они слишком далеко. — Он повернулся к Густаво Генри: — А ты как думаешь?
— Я ничего не вижу, но это не имеет значения. Они не могут ни съесть нас, ни помочь нам.
— Могли бы, если это гуаарибы, — нерешительно проговорил Мигель.
— Святой Боже! — тут же воскликнул его товарищ. — Ты прав. Они могли бы нам помочь. Но что тут делать гуаарибам так далеко от их территории?
— Возможно, они собираются совершить какой-то обмен, — прозвучало в ответ. — Они двигаются с севера и направляются на юг.
— Стреляй!
Венесуэлец вынул из кобуры тяжелый револьвер, с которым не расставался даже во сне, и выстрелил в воздух.
Гром выстрела отразился от стены тепуя и эхом прокатился по Великой Саванне, насторожив индейцев. Они тут же остановились, схватились за оружие и начали озираться, пытаясь определить, откуда раздался столь необычный грохот.
Наконец, при звуке второго выстрела, один из них поднял руку в направлении тепуя.
Постояв какое-то время в нерешительности, а затем наскоро посовещавшись, отряд туземцев поспешной рысцой двинулся к ним.
Мэри Эйнджел с трудом открыла глаза.
— Что происходит? — с трудом выдавила она из себя.
— Индейцы! — услышала она в ответ.
— И?…
Муж пожал плечами:
— Не знаю!
Никто не произнес ни слова — возможно, потому что это требовало сверхчеловеческих усилий — до того момента, как человек двадцать дикарей остановились метрах в трехстах от них, присели на корточки полукругом и, подняв головы, стали внимательно их разглядывать, опершись на длинные луки и острые копья.