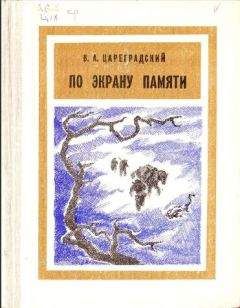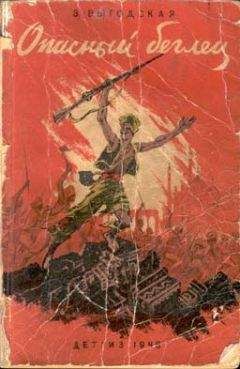Снова стало тихо. Инсур вернулся к письму; дочитал его, затем сложил пополам и разорвал на много мелких кусков. Пускай командующий Бенгальской армией подольше охотится на тигров среди прекрасных холмов Симлы!.. Потом он откинул занавеску.
Двор был пуст. Кансамах сметал в угол мусор, оставшийся после отъезда английской леди.
Инсур вышел во двор. Что-то длинное и узкое лежало в тени, у стены сарая, прикрытое смятым женским платком с узорчатой каймой.
— Что это? — спросил Инсур.
— Женщина, — неохотно ответил кансамах. — Умерла сегодня ночью, в сарае.
— Голод? — спросил Инсур.
— Не знаю. Горячка, должно быть. Пришла издалека… С нею была девочка.
Трудно было поверить, что под платком лежит труп человека, — что-то узкое и тонкое, точно две-три брошенные сухие веточки, едва приподнимало смятую ткань.
Инсур шагнул к стене сарая и остановился. Узор каймы на платке — черные и красные павлины по белому полю — показался ему знакомым.
Инсур вгляделся. Что-то толкнуло его в сердце, он подошел ближе и наклонился над трупом.
— Откуда эти женщины шли? — спросил он сдавленным от волнения голосом.
Никто не ответил ему: кансамаха не было во дворе.
Инсур постоял, словно не решаясь, потом отдернул платок.
Несколько секунд он стоял недвижно и глядел в лицо мертвой. Никого не было во дворе, никто не видел муки, исказившей лицо Инсура.
Потом он прикрыл лицо покойницы белым сари и отошел.
— Батма! — сказал он. — Вот как мне пришлось увидеть тебя снова, Батма!..
Он стоял долго, точно забыл, что ему надо итти дальше.
Кансамах снова вышел во двор.
Инсур спросил его:
— Ты говоришь, с нею была девушка?
— Да, лет тринадцати… Она уже ушла.
— Какая она была? — спросил Инсур с жадным любопытством.
— Чернобровая, красивая, только очень худая.
— Имени не знаешь?
— Нет. Она сказала только, что они идут издалека. Из Раджпутаны.
— Да, — сказал Инсур, — Раджпутана…
Он долго стоял в воротах.
— Куда она пошла? — спросил Инсур.
— На юг… далеко! — махнул рукой кансамах. — Я дал ей риса на дорогу.
Инсур всё еще стоял в воротах, точно ему не хотелось уходить.
Потом он подтянул свою сумку, потуже завязал ремешок у пояса.
— Уходишь? — спросил кансамах.
— Да, — сказал Инсур. — Прощай.
Он свернул из ворот направо, к реке, и остановился.
— Ты дал ей риса на дорогу? — издали крикнул он кансамаху. — Да пошлет тебе судьба удачу в твоих делах, кансамах!..
И он пошел дальше на север.
Глава пятая
БОЛЬШОЙ КОЛЕСНЫЙ ПУТЬ
Труден и долог был путь Лелы.
Иногда, присев на камень у дороги, она пела:
Голубь, дай мне крыло,
полечу над водой!
Лебедь, дай мне перо, поплыву за волной. О, Сакра-Валка!..
Рыба, плавник мне дай, поплыву под водой. О, Чунда-Сакра!
Дай мне тысячу ног, многоножка,
поползу под землей. О, Сакра-Датта!..
Лела шла вдоль Большого Колесного Пути, тропкой для пешеходов, и навстречу ей, и мимо нее весь день шли люди, тащились телеги, скакали конные, с гулким топотом бежали слоны, позвякивая колокольцами под толстой шеей. Носильщики бегом проносили на длинных шестах носилки под ковровым навесом. Офицер-саиб скакал на коне, и слуги бежали рядом, не отставая от коня.
— Дорогу саибу!.. Капитану-саибу! — кричали слуги.
Завидев издали ковровые носилки саиба, Лела уходила подальше. «Не проси милостыни у саибов, они светлы лицом и темны сердцем», — помнила Лела слова кансамаха.
— Дорогу саибу!.. Могущественному саибу!..
Стоял май — знойное время года. Дожди еще не начались. Пыль клубилась над Большим Колесным Путем, огромным дымным облаком постоянно висела над дорогой.
Только в полдень приникала к земле пыль, затихали крики. Люди широким лагерем располагались по сторонам пути, отдыхали в тени повозок, спали. Когда жара спадала, шли и ехали дальше.
Не раз пряталась Лела за дерево или большой камень, завидя издали старика в высокой факирской шапке. Не тот ли это старый страшный факир, который изуродовал ей лоб своим трезубцем?.. Навстречу шли факиры со змеями, с обезьянами, с медными шарами. Факир с цепью, факир с деревянным ящиком, факир без руки, — факира с трезубцем не было.
Мешочек с рисом скоро опустел. «У крестьянина проси, у райота, он сам беден, — подаст», — наказал Леле кансамах. Долгий жаркий день она брела без еды, потом, решившись, свернула с дороги в поле.
Крестьянская семья работала на вскопанном участке. Райот, согнув худую спину, осторожно выбирал руками сорные травинки с поля, чтобы ни один росток риса не пропал на его клочке земли. Две маленькие девочки, продев палку под дужку тяжелого деревянного ведра, с трудом тащили воду, чтобы полить драгоценные всходы. Крестьянка-мать сидела, отдыхая, прислонившись к высокому колесу арбы.
Лела подошла и низко поклонилась крестьянке.
Женщина вынула из тряпок плоский ячменный хлеб, коричневый от примеси пережженной травы.
— Это всё, что у нас осталось, — она нерешительно смотрела на мужа.
Райот, худой, изможденный, с темным от усталости лицом, внимательно оглядел Лелу.
— У тебя нет дома, девушка? — строго спросил крестьянин.
— Нет. Моя мать умерла.
— Отец?
— Отец служит в полку у саибов.
Крестьянин повернулся к жене.
— Ее отец — сипай. Дай ей хлеба, — сказал крестьянин.
Женщина отломила добрую треть своего каравая и подала Леле.
Скоро Колесный Путь сравнялся с берегом реки. Лела шла дальше и дальше вперед, не зная, что отец ее давно бежал из Барракпура на север, в противоположную сторону, в глубь страны.
Баржи, лодки под темными треугольными парусами плыли вниз по Гангу, к Бенаресу. Лела брела берегом, у самой воды.
Всё чаще видела Лела крестьянские семьи, надолго расположившиеся у края дороги. Другие путники, дождавшись прохлады, снимались с места и шли дальше, — эти оставались. Им некуда было итти.
Дома у них больше не было хлеба. Две трети урожая забрали англичане, риса на посев не осталось, — райоты бросали родные деревни и уходили.
Их возвращали и заковывали в цепи. Саибы сажали крестьян в джелхану — тюрьму для тех, кто не внес налога. Их пытали, зажимали им пальцы в надколотый ствол бамбука, подвешивали на брусе, сыпали красный перец в ноздри. Райоты убегали и снова ложились у края дороги. Там, под жестоким индийским солнцем они лежали помногу дней, — худые, истощенные.