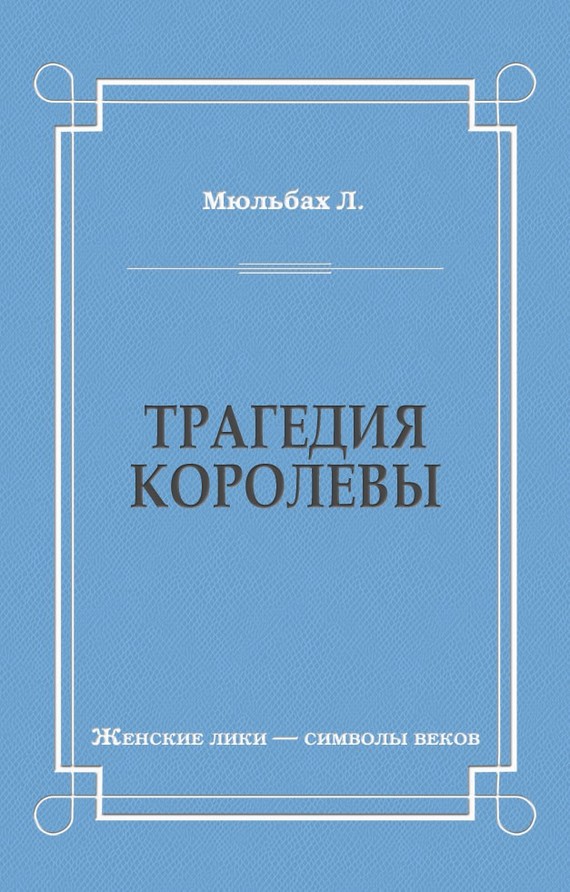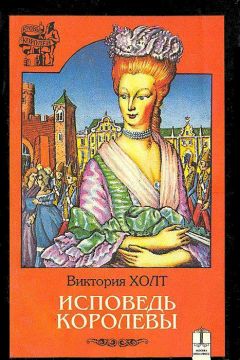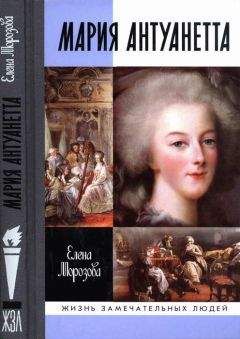подтвердила Мария-Антуанетта, — я оскорбила ее, чтобы напомнить ей, что я — королева Франции, а она — моя подданная. Я сказала ей, что, клевеща на королеву, она становится государственной изменницей.
— О боже! Боже! — воскликнула мадам Кампан. — Этого она никогда не забудет вам! С этих пор она будет непримиримым врагом вашего величества и ничем не пренебрежет, чтобы вам отмстить!
— Пусть мстит! — сказала королева, лицо которой уже начало проясняться. — Я не боюсь ни ее, ни ее сообщников; любовь моего мужа и моя ненависть защитят меня. Да и что она может сделать мне? Только клеветать на меня! Никто не поверит ее лжи.
— Ваше величество не знаете, как зол свет, — с печальным вздохом возразила мадам Кампан, — ваше величество полагаете, что добрые люди не могут быть трусами, а низкие — отважными, и не подозреваете, что дурным людям очень легко дурно настроить общественное мнение, тогда как людям честным часто не хватает мужества бороться с этим. Общественное мнение — это чудовище, которое и судит и наказывает: оно сильнее целой армии, неумолимее смерти.
— Я не боюсь его, — гордо сказала Мария-Антуанетта, — оно так же опустит предо мною голову, как лев пред непорочной девственницей. На мне нет никакой вины; я была верна королю даже тогда, когда он еще не любил меня; как же я могла бы изменить его любви теперь, когда он — отец моих детей?.. Ну, довольно об этом! Пойдемте, Кампан, королева должна поскорее перерядиться в счастливую женщину!
Камер-фрау, вздыхая и качая головой, последовала за королевой в уборную.
— Долой эти королевские уборы! — сказала Мария-Антуанетта, поспешно снимая пышную робу. — Дайте мне белое платье и газовый платок!
— Ваше величество, вы опять желаете появиться в простом ситцевом костюме? — со вздохом спросила мадам Кампан.
— Разумеется, ведь я отправляюсь в свой милый деревенский Трианон! Знаете, Кампан, король обещал мне целую неделю проводить со мной всякий вечер в Трианоне среди природы и уединения; значит, король целую неделю будет королем только до полудня, а после полудня будет превращаться в мельника в деревне Трианон! Видите, мне необходимо надеть простое бумажное белое платье, хотя мадам Аделаида и упрекает меня за мои костюмы и даже поддержала жалобы лионских фабрикантов шелка, уверяя, что я ношу и ввожу в моду белые бумажные материи и только для того, чтобы поддержать австрийскую торговлю и сделать удовольствие своему брату, императору Иосифу. Ну, скорей, Кампан, мое белое платье!
— Прошу прощения, ваше величество, но я должна позвать обеих камер-юнгфер при гардеробе.
— Боже мой, Кампан! Неужели я всегда должна носить эти цепи? Разве вы не можете сами одеть на меня платье?
— Гардеробные дамы не простили бы мне этого, ваше величество; уж разрешите позвать их!
— Ну, делайте, как хотите! Я за все вознагражу себя в Трианоне! — со вздохом сказала королева.
Через четверть часа она вышла из своих покоев совершенно преображенная: белое платье с воланом не скрывало ее стройных форм; вместо неуклюжего, длинного корсажа со шнипом на ней был легкий сборчатый лиф, опоясанный голубым шарфом, концы которого грациозно свешивались с левого бока. Широкие рукава, обшитые узкими кружевами, и газовая косынка, накинутая на плечи, не скрывали красоты ее изящных белых рук и шеи. Огромная прическа уступила место локонам, падавшим на красивый, твердый затылок и благородные плечи. Королева несла на руке, на широкой голубой ленте, большую круглую соломенную шляпу. Вместо перчаток на ней были черные ажурные митенки. С разрумянившимся лицом, горящими глазами и очаровательной улыбкой на губах, олицетворяя собою веселость, невинность и легкомыслие, Мария-Антуанетта вышла в гостиную, где ее уже ждала герцогиня Полиньяк, бывшая в совершенно таком же костюме.
— Идемте, Жюли! — воскликнула королева, взяв герцогиню под руку. — Покинем этот мир и отправимся в рай!
— Ах, я боюсь рая! — со смехом ответила молодая женщина, — Я боюсь змея, но больше за свою обожаемую королеву, чем за себя!
— Боже мой, Жюли! — вздохнула королева. — Зачем вы все зовете меня этим титулом, когда мы одни? Нас никто не слышит, забудьте же хоть немножко этикет.
— Ваше величество, — смеясь, возразила герцогиня. — Ведь мы в Версале, а стены здесь имеют уши.
— Правда! — воскликнула королева. — Это извиняет тебя. Пойдем же скорее, Жюли, пойдем туда, где нас будут слышать природа да Господь Бог!
Они вышли из дворца по маленькой боковой лестнице. Королева легко впорхнула в ожидавший их экипаж и радушно протянула подруге руку, чтобы помочь ей.
— Скорее! — крикнула она кучеру. — Мчитесь, словно у лошадей есть крылья! Я хотела бы лететь!
III. Трианон
Горячие кони действительно летели, как птицы. Когда экипаж остановился у решетки Трианона, королева выпрыгнула из него легче газели, как молоденькая девушка, у которой еще нет ни забот, ни печалей, и прежде чем лакей успел распахнуть пред нею обе половинки ворот, она быстро скользнула в калитку.
— Вебер, — сказала она почтительно склонившемуся пред ней камердинеру, говоря тем мягким немецким языком, которым известно австрийское произношение, — вам не для чего провожать нас. Воспользуйтесь свободой, как мы пользуемся ею. Если встретите его величество, скажите, что я пошла к мельнице и, если его величеству угодно, буду ожидать его там. Пойдем, Жюли, теперь я, слава богу, не королева, а такая же простая смертная, как и все. Посмотри, дорогая, как все здесь ясно и свободно от земного праха! Здесь даже небо другого цвета: оно сине и ясно, как глаз Божий.
— Вы, ваше величество, на все смотрите особенными глазами, — смеясь, сказала герцогиня Полиньяк.
— Опять «ваше величество»! Так ты меня вовсе не любишь? Зачем ты зовешь меня этим холодным именем?