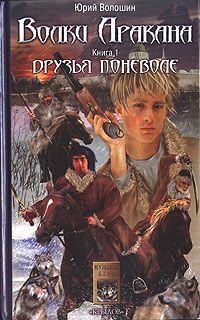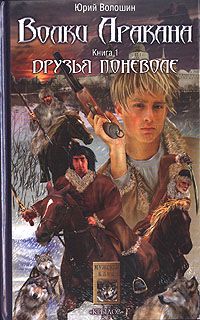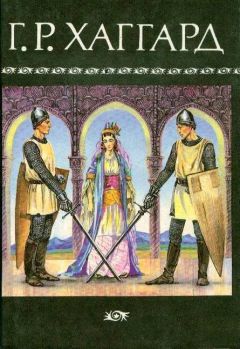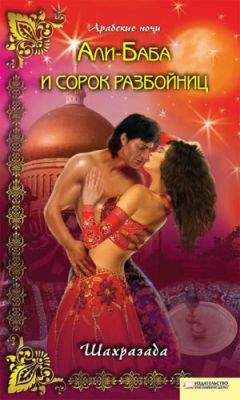Монах снял ремень, стянувший верх бедра. Татарин корчился на рядне, а лекарь сноровисто готовил снадобья.
– Вот наложим тебе мази на рану, замотаем чистой тряпицей, и скоро все заживет, отрок.
Отрок скрипел зубами, но молчал. Рядом стоял Петька и все всматривался при тусклой свече в бледное осунувшееся лицо раненого. Ему было жалко парня. Он отмечал особенности лица страждущего, его довольно тонкий нос, черные брови и глаза, волевой подбородок и скуластый овал лица. Непроизвольно отодвинул прядь мокрых волос со лба и получил в ответ злобный взгляд страдальческих глаз.
– Ну вот, отрок, и все, – сказал наконец брат Тимофей. – Теперь вам можно и в путь. Брат настоятель не позволяет вам тут оставаться. Да хранит вас Бог, горемычные.
Он перекрестился, собрал свои зелья и протянул Пахому маленький сверток, сказав:
– Это вам запасец. Будете ежедень сменять повязку, так и мазью его попользуйте. Авось и поможет. Все в руце Божьей. С Богом, родимые, да хранит вас Господь. – Он поклонился и удалился, сухонький и смиренный.
Пахом молча вывел коня, развернул его и медленно, нехотя поплелся к своим товарищам по несчастью, которые дожидались его, сидя на сене в санях. Петька шел следом за ним.
Сафрон поднялся, взглянул горестно на сына и сказал:
– Ох, сынок, чует мое сердце, не к добру ты нам своего татарина навязал. Обуза-то какая…
– Что ж делать, тятя? Человек ведь, а я в него стрельнул. Негоже творить нам нечестивое. Не по-божески это. Дядя Силантий не одобрил бы сего.
– Да уж. Ну ладно, хватит разговоров. Путь дальний, а для нас еще и опасный. Поехали, Пахом.
Тут подошел монах-послушник и, протянув плошку Пахому, молвил:
– Брат Тимофей наказал татарину испить отвара. Подай ему.
– И чего это я должен?.. – Пахом вздохнул, но принял плошку.
– Дай мне, Пахомка, – попросил Петька и смело взял протянутую с готовностью плошку. – На, пей, горемычный, это должно облегчить тебе твои муки. Верь брату Тимофею. Он Божий человек, хитрить не станет.
Татарин помолчал малость, подумал, но потом приподнял голову, и Петька поднес плошку к его губам. Гримаса отвращения исказила лицо татарина, он отворотил голову, но Петька настойчиво продолжил:
– Не вороти морду, нехристь! Пей, тебе говорю. Надо. Все пользительное горько, я знаю. Но это все ж лучше, чем боль в ноге. Верно говорю.
Татарин с усилием выпил отвар и откинулся на сено. Он был укрыт тяжелой бараньей полостью, но его трясло в ознобе. Он ежился, молчал, закрыв глаза и стиснув зубы.
– Трогай! – сказал Сафрон, и пароконные сани скрипнули полозьями. За ними потащились Петькины сани, конь неохотно тянулся за поводом, который был привязан к передним саням.
– Давай-ка, Петр Сафронович, на коня, – сказал Кузьма, подводя к отроку своего. – Я на татарском поеду, а то, чего доброго, не справишься ты с таким. Садись, я подмогну. Пистоль засунь за кушак или под тулуп, а то утеряешь. Давай, поспешай.
Маленький караван потянулся по укатанной дороге, и вскоре монастырь скрылся из виду. По обе стороны дороги тянулись ели, ветерок едва шевелил их, и они тихо шептались в ночной тишине. Наверное, ночь уже перевалила за середину. Всем хотелось спать, давила усталость. Петька пожалел, что пересел на коня Кузьмы, хотя поначалу и радостно было ощущать себя вершником.
Не прошло и часа, как сани свернули вправо и потащились по едва заметным следам, оставленным несколько дней назад. Втянулись в лес. Стало жутковато, кони всхрапывали, настороженно прядали ушами, косились на таинственные кусты и заросли. Ритмичное бряцанье сбруи неумолимо клонило ко сну. Петька нерешительно покрутил головой, наконец не выдержал и спросил:
– Далече нам еще ехать-то, Кузя?
– То лишь хозяин ведает. Ему видней. А ты, может, на сани ляжешь? Небось притомился, а?
– Хорошо бы, – с готовностью отозвался Петька, с радостью посмотрев на Кузьму и взглядом благодаря его за совет и предложение. – А ты не вздремнешь ли со мной? Коней привяжем и подремлем.
– Можно бы, да боязно, хозяин заругает. Ну да и пусть, – и он поспешно соскочил с коня, на ходу привязал его к саням и помог Петьке сделать так же.
– Глянь-ка, а татарин-то спит, – сказал Петька шепотом, увидев, что раненый мерно посапывает под полостью.
– Давай тихонечко залазь под полость. Страсть как спать охота.
– Эй, странники! – голос внезапно резанул по ушам, и Петька вмиг приподнялся на сене. Говорил Пахом. Сани стояли. Вокруг серел рассвет, небо посветлело.
– Кузьма, ты чего развалился, будто хозяин? Делов полный рот, а ты дрыхнешь! Вставай! Хозяин кличет.
Недовольно кряхтя, Кузьма выполз из-под полости, с трудом разминая ноги и руки. Он закоченел и теперь кое-как делал неловкие телодвижения. Потом огляделся и потрусил к кустам, проваливаясь выше колен в сугробы. Вдогонку его подхлестывал голос Пахома:
– Поспешай, а то харч весь выйдет! – И, обратясь к Петьке, Пахом продолжил: – Тебе тоже негоже бока отлеживать. Вылазь, да и татарина своего вынимай, а то все сани обмочит. Ты об этом подумал?
Это сильно озадачило Петьку. Он тоже выбрался из саней. Татарин не спал, вращая глазами вокруг. Петька подошел к нему и спросил:
– Ну что, полегчало? Болит? Как же нам с тобой до ветра сходить? Пахом, помоги мне с ним управиться.
Вдвоем они с трудом подняли раненого и успешно совершили необходимое. Тот молчал, но видно было, что его донимает боль. Он сильно ослаб, побледнел и сам бы ни за что не смог даже сесть. Однако злобное выражение не переставало искажать его лицо, заострившееся и осунувшееся.
– А ну пошевеливайтесь! – донесся голос Сафрона. – Чего там возитесь? Давай расчищай место для костра, а то я закоченел весь. Да и поснедать пора. Оголодали небось и вы.
– Тятя, мы зараз, мы скоро, – отозвался задорным голосом Петька и с молодым рвением принялся ногами и ветками сметать толстый слой снега. Ему помогал Кузьма, вернувшийся из леса. Пахом натаскал сушняка, вытащил рядно, задал корм коням.
– Дневать будем тут, – молвил Сафрон. – Отдохнем, а к вечеру дальше двинемся до Вяжища. Там у меня знакомец есть, харча добудем и коням сена. И не шумите сильно.
Не прошло и часа, как все товарищество уже позавтракало и улеглось на сани отдыхать. Сон сморил всех, и только топтание коней нарушало тишину леса. Где сорока иногда затрещит, где ветка треснет.
К вечеру тронулись в путь. Петька опять ехал верхом – коням невмоготу было тащиться по целине с тяжелыми санями. Парень постоянно был рядом с татарином, пытаясь разговорить его, но тот молчал, вращая глазами. За это время Петька успел рассказать ему о своих делах в городе, о том, что ему скоро стукнет пятнадцать, что остался в городе закадычный дружок Фомка…