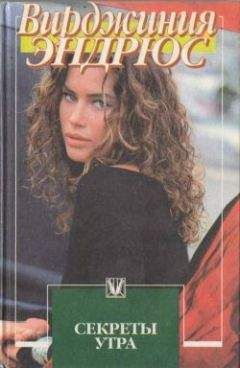Ниже была сделана карандашом странная приписка: «Гедиминович! Ты доверчив, как институтка! С кем ты сидел вчера у Миллера? К.»
— Это не нужно читать! — Тышкевич взял у Рысина бумагу. — Идемте сейчас в караульню. Выделяю вам трех человек. Потрудитесь организовать наблюдение в указанных пунктах.
— Но я занимаюсь уголовными делами, — возразил Рысин.
— Теперь это не имеет значения…
Они вышли в коридор.
Навстречу им выкатился из-за угла маленький плотный человечек.
— Вы поручик Тышкевич? — спросил он, размахивая носовым платком. — Я член городской управы доктор Федоров.
— Ну? — без особого воодушевления произнес Тышкевич.
— Мы вынуждены обратиться к вам за помощью, — Федоров стоял почти вплотную к нему и для вящей убедительности норовил ухватиться за портупею коменданта. — Три дня назад из научно-промышленного музея неизвестными лицами вывезены ценнейшие экспонаты художественной коллекции…
— А! — Тышкевич сделал неудачную попытку прорвать заслон. — Городской голова телефонировал мне об этом.
— Это ценнейшие экспонаты! — воскликнул Федоров. — Мы сражаемся за цивилизацию, и судьба культурных ценностей никого не должна оставлять равнодушным!
Тышкевич грозно навис над ним:
— Знаю я ваши ценности. Чугунная свинья и две голых бабы работы неизвестных художников! — Поручик, потеснив Федорова, направился к выходу.
Рысин, с большим вниманием слушая обе стороны, сам не проронил ни слова. Он уже начал догадываться, с какой целью прибыл в город Константин Трофимов, почему Желоховцев не захотел говорить о своих подозрениях более внятно.
Однако делиться своими догадками с Тышкевичем он вовсе не собирался. У них были разные задачи. Тышкевичу нужно поймать красного агента, а ему, Рысину, — отыскать коллекцию.
«Царапины, расположение царапин, — внезапно подумал Рысин. — Вот что он упустил из виду, осматривая кабинет Желоховцева!..»
Около девяти часов утра, под насыпью железной дороги на полпути между университетом и заводом Лесснера путевой обходчик обнаружил труп молодого человека в студенческой тужурке, о чем незамедлительно донес начальнику вокзальной охраны. Тот выслал на место двух солдат с унтер-офицером, дав последнему инструкцию: долго не возиться, доставить тело в университет или в комендатуру — смотря по обстоятельствам, и сразу возвращаться на станцию. В конце июня 1919 года забот у начальника вокзальной охраны было много, а солдат мало — некоторые посты, определенные караульным расписанием, вообще не выставлялись.
Поскольку убитый одет был в студенческую тужурку, а неподалеку валялась такая же фуражка, унтер велел нести его для опознания в университет. Сам же отправился в комендатуру Слудского района, где, встретив на дворе Тышкевича с Рысиным, по всей форме отрапортовал о случившемся.
— Тело нельзя было трогать до прибытия доктора и следователя, — сказал Рысин.
— Нам об этом неизвестно, — деревянным голосом ответил унтер. — Да и народ там стал собираться, разговоры всякие…
— Он прав, — бросил Тышкевич. — Не до протоколов сейчас, — поручик небрежно кивнул в сторону семенящего за ними Федорова. — Возьмите с собой этого мецената. Он, кажется, доктор. Пусть составит медицинское заключение.
— Всегда готов исполнить свой профессиональный долг, — Федоров шагнул вперед. — Но и вы, поручик, должны исполнить свой!
Тышкевич ничего не ответил.
— Я даю вам троих человек, — обратился он к Рысину. — Больше не могу. Сообщите им приметы Трофимова… Вы их запомнили?
Рысин снисходительно улыбнулся.
— Вот и прекрасно. О результатах доложите завтра утром, когда придете за сменой вашим караульным… Кстати, где ваш револьвер? Почему без кобуры?
— Застежка сломалась, — объяснил Рысин.
…Обязанности начальника университетской дружины исполнял мрачный штабс-капитан с рукой не перевязи. Изложив суть дела, Рысин оставил на его попечение одного из своих солдат. Двух других, узнав адрес Желоховцева, отправил патрулировать улицу перед его домом — эту затею он считал совершенно бесполезной. А сам вместе с Федоровым пошел в подвал, куда успели снести труп.
— Опознали тело? — спросил Рысин у швейцара.
— А то как же! Я тут третий год на должности, всех знаю. Как принесли, так сразу и признал. Мать, думаю, честная! Это же Свечников, историк… И кому его душа понадобилась? Тихий такой был студентик. В Татьянин день у нас шум, баловство разное, а он…
— Из Перми этот Свечников?
— Кунгурский он вроде.
— Вот что, — распорядился Рысин. — Ступай сейчас к начальнику дружины. Скажи, пусть пошлет за хозяином квартиры, где жил Свечников.
— А покойного кто покажет? — расстроился швейцар.
— Сами найдем, не волнуйся…
Подвал загромождала вынесенная из аудиторий мебель — часть аудиторий заняли под офицерский лазарет. У стены стоял ростовой портрет царя Николая в форме казачьего офицера. Портрет обит был траурным крепом. Его пыльный шелк казался серым в полосе света, бившего из зарешеченного оконца. Под оконцем, на двух приставленных друг к другу столах лежал человек. Он лежал на спине. Одна ступня по-неживому вывернута набок, на лице фуражка.
Федоров осторожно убрал фуражку.
«Лет двадцать, не больше», — подумал Рысин, глядя на перепачканный землей лоб убитого и стараясь не задеть взглядом его запекшихся губ.
И тут же явилась мысль: «Почему лицо в земле, если, как утверждал унтер, он на спине лежал?»
— Совсем еще мальчик, — сказал Федоров.
Они вдвоем перевернули тело — под левой лопаткой сукно тужурки было разорвано пулей. Рысин нечаянно коснулся поверхности стола и тут же отдернул руку. Дерево липло к пальцам.
Он отошел, сел.
Ему никогда не приходилось заниматься расследованием убийств — для этого существовала полиция. О громких преступлениях он узнавал из газет. Несколько раз даже писал письма следователям, излагая свои соображения, и радовался, когда они подтверждались в ходе процесса. Убийство было для него не поступком, а ходом игрока, преследующего определенную цель. Случайностей здесь не было, вернее, они его не интересовали. Чья-то смерть была конечным итогом одной комбинации и началом другой, а срубленная фигура убиралась с доски для того, чтобы появиться в новой партии с новым игроком. Но сейчас, в сумеречном университетском подвале, на окраине города, живущего слухами, страхами и надеждами, под взглядом мертвого императора, он впервые подумал о смерти, как о чем-то таком, что само по себе отрицало всесилие логики и разума. Он всегда верил в логику мелочей, но теперь наступали такие времена, когда мелочи теряли привычный житейский смысл.