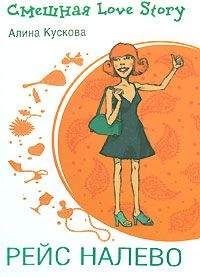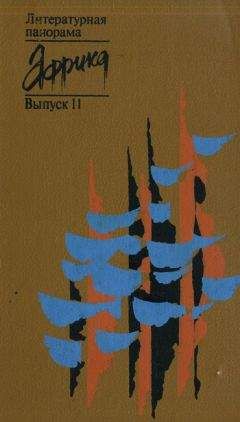приговоренному, священник быстро крестился и переходил к следующему. Никто не пытался сопротивляться, не кричал пафосные лозунги. Все проходило очень тихо — кажется, Максим слышал шелест, с которым падали на землю мягкие хлопья снега. Бывшие мятежники, только что громко оравшие требования, теперь не то что шуметь — кашлянуть боялись, так и застыли в оцепенении.
Наконец Марушевский скомандовал огонь. Полсотни выстрелов грянули одновременно. Темные пятна легли на грязный снег. Тринадцать тел повисли на веревках.
— Мы же даже не переписали их фамилии, — спохватился Максим.
— Я этим озаботился, — успокоил его Жилин, подозвал какого-то прапорщика, и тот вручил комиссару исписанный от руки лист.
Максим поднес бумагу к глазам и прищурился, силясь прочесть кривые строки. Как минимум четыре из тринадцати фамилий совпадали с Марусиным списком — не всех большевиков удалось разыскать сразу.
Прапорщики отдавали бывшим бунтовщикам команды, щедро сдобренные руганью. Одних заставили убирать тела, других сразу делили на небольшие группы и разводили по разным казармам. Всех в обязательном порядке провели мимо столбов с привязанными к ним телами.
— Максим Сергеевич, я высоко ценю то, что вы сегодня сделали, — комиссар и не заметил, как Марушевский подошел к нему. — Полковник Жилин прекрасно о вас отзывался, а сегодня я имел честь убедиться лично…
— Товарищ генерал, а можно вопрос? — осмелел Максим. — Вы бы и в самом деле отдали приказ стрелять по казарме? Перебили бы две сотни своих солдат?
Марушевский снял фуражку, обнажив лысину. Максим увидел, что пальцы в белых перчатках едва заметно дрожат.
— Приказ я бы отдал, как обещал. Но, надеюсь, до смертоубийства не дошло бы. Первыми стреляли бы бомбометы, так что здание не разрушилось бы, только дрогнуло. Полагаю, этим трусам оказалось бы довольно, так что смертей мы бы избежали… ну разве что кого-то ранило бы осколками стекла.
— Ясно-понятно…
— Впрочем, если б это не подействовало, я довел бы дело до конца. Но благодаря вашей дипломатии все прошло значительно лучше, мятежники сдались добровольно. Хорошо, что удалось избежать вмешательства союзников, генерал Айронсайд настойчиво предлагал помощь… Если бы дошло до столкновения британских солдат с русскими, события могли бы… перетечь в иную плоскость.
— Да уж…
— Так что как бы ни был тягостен сегодняшний день, нам удалось избежать куда более страшных трагедий. Однако не смею более вас задерживать, вам, безусловно, следует отдохнуть.
Максим вернулся к Марусе. Кто-то успел позаботиться о ней — принесли пару ящиков, чтобы она смогла сесть, и шинель.
— Ты в порядке?
Запоздало сообразил, что так в это время не выражаются, но Маруся поняла.
— Да. Нога вот только разболелась.
— Сейчас найду транспорт до госпиталя. Скажи только… — Максим передернул плечами, вспоминая истерику Михи. — Ты… тебе нормально с тем, как все закончилось?
— Разумеется, — спокойно ответила Маруся. — Я ведь знала, что так и будет. Это как заражение крови — чтобы человек выжил, необходимо отсечь гниющую часть тела безо всякой жалости. Я раньше этого не понимала. Теперь поняла.
— Что же… заставило тебя понять?
— Ты.
Отвезти бы ее на ночь к себе, решил вдруг Максим. Может, просто поговорить, побыть не одному… ну или не только, если она захочет. А она же захочет. Им обоим нужно снять стресс.
К ним почти подбежал доктор Мефодиев. Его кашемировый шарф белел в темноте. И где он, спрашивается, был, пока шел кризис?
— Наконец-то я тебя разыскал! Слава Богу, ты цела! Тебе срочно нужно в госпиталь! — выкрикнул он Марусе и тут же обернулся к Максиму: — Разве можно подвергать женщину такому риску? Как вы могли⁈
Максим пожал плечами. Мог, и все тут. Он рисковал своей жизнью — и Марусиной тоже. Так надо было, и это оказалось совершенно естественно.
— Не нужно про меня говорить так, будто я ребенок или вещь, — раздраженно ответила Маруся. — Я сама приняла решение. Приступила к той самой агитационной работе, на которую ты меня и звал.
— Тебе еще рано работать, ты не поправилась! — волновался Мефодиев. — Я как твой врач тебе запрещаю!
— Поздно, доктор, — усмехнулась Маруся. — Я уже начала. И работы перед нами — непочатый край. А времени, считай, не осталось совсем.
Декабрь 1918 года
— Так как же вышло, что зачинщиков мятежа расстреляли без суда? — в голосе Чайковского звучала скорее горечь, чем обвинение. — Вы ведь были там, Максим Сергеевич. Отчего не настояли на заседании военно-полевого суда?
Максим устало потер виски. От этого лицемерия уже тошнило. В течение всех вчерашних событий Чайковский каждые полчаса запрашивал новости по телефону. Все решения были приняты с его ведома и при его невмешательстве. Но теперь, конечно же, надо завиноватить во всем комиссара… который, в отличие от членов правительства, там был.
Вызывал его Чайковский отчего-то не к себе в кабинет, а в зал заседаний, и теперь они вдвоем сидели за длинным столом, покрытым зеленым сукном.
Максим лег в постель рано, но только под утро смог провалиться в нездоровый беспокойный сон. Снились ему не расстрелянные сегодня — он и лиц-то их не разглядел толком — а мертвый партизан Ларионов. «Знаете, что вы сделаете потом? Сядете на пароходы и сбежите…» — говорил Ларионов, и лихорадочный блеск глаз придавал его облику нечто демоническое.
Ах да, Чайковский с его почти риторическими вопросами…
— Обстановка сложилась так, что медлить с наказанием виновных было нельзя, — терпеливо объяснил Максим то, что собеседник и без того прекрасно знал. — Следовало довести дело до конца.
Чайковский склонил седую голову, запустил пальцы в живописную шевелюру. На красиво вылепленном лице его отражались тяжкие раздумья.
— Понимаю… — произнес он наконец. — Действительно, следовало довести дело до конца…
Максим украдкой глянул на часы. Пора было идти за Михой в полицейский участок, вот уж где будет по-настоящему тяжелый разговор… Нет, изволь сидеть здесь, созерцать этот театр одного актера.
— Что же, раз такова была военная необходимость… — продолжал вещать Чайковский. — Должно быть, это оправдано, ведь большевизм — главная опасность для всей современной культуры. Души большевиков пусты, в них нет ничего, кроме ненависти. Будущее должно принадлежать творческому, созидательному социализму, построенному на социальной любви людей друг к другу.
Максим снова посмотрел на часы, уже демонстративно.
— И если в борьбе за это