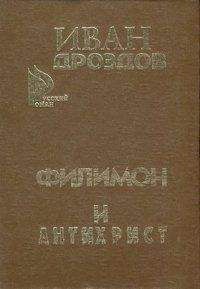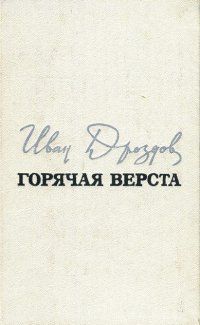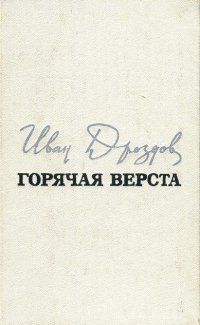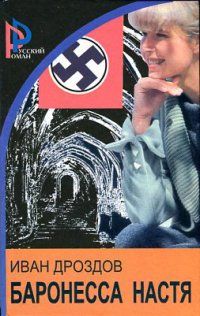Но что это? Боже милостивый!.. Рядом идёт не братец, а Зяблик. Поднимает над головой кулаки, хохочет. И зубы у него… чёрные. А высоко в небе на красной тарелке сидит Александр… До слуха Ефима доносится его звонкий, как в молодости, голос: «Прощай, Ефим!»
Утром дорогу через лес расчищал трактор, и тракторист увидел, как нож скрепера вывернул из снега замёрзшего человека.
Филимонов находился в состоянии человека, который шёл-шёл по ровному полю, любовался природой и всеми прелестями жизни и вдруг: ах! — провалился в колодец. Глубокий и тёмный. Стены гладкие, отвесные, зацепиться не за что, над головой чуть светит клочок неба — как выбираться? Что делать?.. А кругом тишина и помощи ждать неоткуда.
Мозг лихорадочно работал. Теперь уже не над расчётами, импульсатор отошёл в сторону. Филимонов расходовал всю мощь своего математического ума на поиски выхода из создавшегося положения. Где бы он ни был — на работе, дома, на совещании в министерстве или в Академии наук, думал об одном и том же: как выпутаться из ужасной и нелепой истории?
Характер бойца поддерживал его на плаву, он не сдавался. Решил на время отступить, сдать часть позиций, но затем собраться с силами и вновь ринуться в наступление. «Так случается на войне, — рассуждал сам с собой и в этих рассуждениях находил успокоение. — Сегодня ты их побил — завтра они тебя. Закон всякой борьбы, единство противоположностей, диалектика».
Поначалу думал: кому бы открыться, рассказать — заходил к Шушуне, порывался довериться по старой дружбе, но Шушуня всё чаще и подолгу уединялся в кабинете с Зябликом, и Филимонов раздумал. Хотел поделиться с Федем — не посмел, постыдился. Так и остался наедине со своей тайной, решил в одиночку пройти трудную полосу жизни. Порой, когда открывался удачный ход, являлась счастливая идея, он даже приободрялся. «У меня власть, я директор — всё поставлю на свои места, вот только нужно терпение, нужно время».
И он, не находя почвы для решительных действий, всё больше уповал и надеялся на время.
Противная сторона тоже как будто не проявляла активности. Пап в институте не появлялся и не звонил. Филимонов, намеревавшийся уволить бездельника, теперь об этом не помышлял; даже радовался, не видя Папа в коридорах и на совещаниях. Зяблик аккуратно являлся на работу, сидел всё больше в кабинете. Поток посетителей к нему становился всё оживлённей.
Николай со дня на день намеревался зайти к Шушуне, открыться ему, но какая-то тревога удерживала его.
Федь, получивший в своё время задание на реорганизацию института, целый месяц потратил на поездки в министерство, профсоюзные инстанции — утрясал, согласовывал детали передачи группы теплоизмерительных приборов в специальный институт, занимающийся этой проблемой. Из трёхсот человек этой группы институт брал лишь двенадцать сотрудников и малую часть оборудования. Остальные подлежали сокращению и уже подыскивали работу. Подробный план этой акции Федь принёс к директору, и тотчас же вслед за Федем в кабинет Филимонова вошёл Зяблик. И без того мрачный, несловоохотливый Федь замкнулся, ждал, когда Зяблик покинет кабинет. Но Зяблик уходить не торопился. Филимонов, раскинув руки и как бы объединяя их жестом, сказал:
— Хорошо, что мы все собрались. Докладывайте, Николай Михайлович!
Федь молча положил бумаги на стол. Директор, пробежав их, сунул Зяблику.
— Что вы скажете на это, Артур Михайлович?
Зяблик не торопясь и как бы нехотя взял бумаги, стал рассматривать. Федь, стрельнув по нему уничтожающим взглядом, повернулся к Филимонову, взгляд его спрашивал: «Что это значит?» Филимонов чуть заметным жестом просил его успокоиться.
— Я буду категорически возражать! — раздался вдруг хрипловатый взволнованный голос Зяблика. Он даже привстал в кресле и стукнул по мягкому валику кулаком. — Вы взяли курс на развал института, мы этого не позволим!
— Кто это — «мы»? — выдохнул Федь. Его лицо сделалось малиновым, он весь дрожал от негодования.
— Ладно, успокойтесь! — поднялся Филимонов. — Оставьте бумаги у меня, я буду думать.
И подошёл к столику со счётной машиной.
Зяблик выходить из кабинета не торопился, не хотел оставлять Филимонова с Федем. Федь потолкался с минуту, но не встретил со стороны директора желания остаться с ним наедине, скорее, Филимонов хотел остаться с Зябликом, — и Федь, уловивший настроение шефа, обескураженный, махнул рукой и вышел. Зяблик стоял у окна спиной к директору, обиженный, погружённый в глубокие думы. Пожал плечами и глуховато, всё ещё взволнованным голосом забубнил:
— Роете себе яму и сами этого не понимаете!
Николай нажал клавишу машины — скорее, для пробы — она зажужжала; механически записал выпрыгнувшие на табло цифры; не поворачивался к Зяблику, не отвечал, делал вид независимый, но втайне ждал, что откроется в позиции Зяблика, в его «я буду категорически возражать!»
— Сами вы, Николай Авдеевич, в петлю лезете! Нет бы посоветоваться, заранее обговорить. Александр Иванович, бывало, без меня…
— Что было, то прошло! — прервал Филимонов, но, впрочем, не зло, а так, для порядка. — К прошлому возвращаться не станем. Мы сектор наметили к сокращению. Тизприборы к профилю института отношения не имеют. Мы и другие подразделения, не связанные с импульсатором, будем отсекать. Правительство очертило границы наших дел, и нам незачем распыляться!
Филимонов говорил строго, с явной решимостью следовать намеченным курсом и не поддаваться шантажу, но чуткий Зяблик уловил в голосе шефа приглашение к разговору, ту слабую трещинку сомнения, в которую вбивай клинья — и она будет расширяться.
Втиснул себя в угол кресла и, устремив на Филимонова жёлтые мерцающие глаза, продолжал:
— Хочу задать вам один только вопрос. Маленький — совсем пустяк! В чём сила «Титана», авторитет, вес? Как вы понимаете, Николай Авдеевич? Нет, нет, вы не делайте такие глаза. Вы скажите: в чём он — вес «Титана»? Ах, подождите, пожалуйста! Знаю, о чем вы хотите сказать: результаты открытий, польза народу и так далее. Результаты, если они даже у вас и будут, придётся долго и не всегда успешно доказывать. Польза народу?.. Слова, ставшие в наше время непопулярными, от них устали, ими слишком часто прикрывали бездеятельность, а иногда и злые умыслы.
Вес института в его годовом бюджете! Да, Николай Авдеевич! Сумма денег, выделяемая нам из народного кармана. Восемьдесят миллионов! — это звучит, придаёт вес. А что вы скажете, если годовой бюджет института будет исчисляться суммой… ну, скажем шесть миллионов? Да ничего вы не скажете, потому что вас не будут слушать. Госплан, Совет Министров, Верховный Совет сбросят вас со счетов — двери закрыты, вас туда не пустят, вас таких много, легион. Подумаешь — шесть миллионов! Идите в райком, райплан — там посчитают ваши копейки! Скажите, Николай Авдеевич, этого вы хотите? Вы хотите, чтобы Зяблик, ворочавший десятками миллионов, входивший без доклада к министрам — чтобы этот Зяблик, то есть я, своей собственной персоной, толкался в приёмных районных начальников? Да Зяблик завтра же уйдёт от такой жизни! Его место займёт Федь, бешеный Федь, готовый первой же дурацкой реформой подставить вашу голову под удар — смертельный и непоправимый. Ну, будет. Устал.