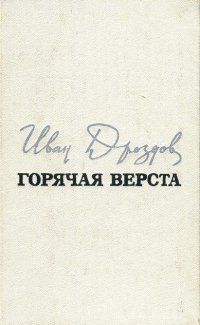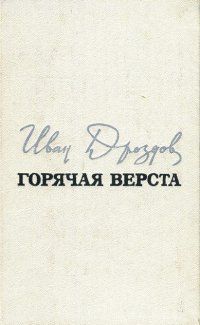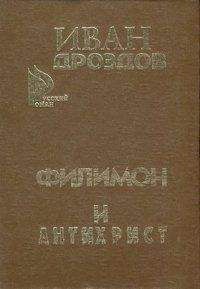Настя нарочно говорила об этом просто, словно дело это решенное и поправить ничего нельзя, а если она и говорит об этом, то только потому, что ей жалко Егора и придумать чего–нибудь для поправки дела она не может.
Она встала, подошла к Егору, положила ему на плечи руки. Смотрела в глаза — необычно смотрела.
— Ты чего? — спросил Егор, не в силах долго выдерживать её взгляда. И отвернулся, шевельнул плечами, пытаясь освободиться от Настиных рук, но она стояла возле него и неотрывно на него смотрела. Потом сказала: — Ты насовсем?..
— Что?.. Не понимаю.
— В артисты — насовсем?
— А–а–а… Не знаю. Откуда мне знать.
Егор снова отвернулся, давая понять, что разговор ему неприятен, и он не хочет его продолжать, и вообще, не знает он, чего от него хочет Настя, чего добивается.
— Ну, ладно, давай простимся. Желаю тебе бурных аплодисментов. Слышит мое сердце, что удерёшь на сцену. А жаль. Из тебя хороший бы оператор вышел. Как твой отец! Ну да ладно. Пусть тебе хорошо будет на сцене!
Она крепко, по–мужски пожала Егору руку.
И вышла. И тотчас же к Егору вошел Павел Павлович. Сел в кресло. Егор повернулся к нему и, не отвечая на приветствие старого артиста, сказал:
— Павел Павлович, а на больших сценах, в больших городах я смогу выступать с сольными концертами? — Сможешь, но я бы тебе не советовал. У тебя нет культуры пения.
— Как?..
— Очень просто. Искусству пения ты не учился, голос у тебя не поставлен — взыскательный зритель тебя не примет.
— Как это?..
— Опять–как! Да тут и удивляться нечему.
Данные у тебя есть, а певца из тебя надо ещё делать.
Учиться надо, Егор, учиться.
— Где?
— В консерватории. Хорошим певцом через пять лет только стать можешь. Так–то, Егор. Ну да ладно, мы об этом позже с тобой потолкуем, а сейчас давай обсудим создавшееся критическое положение: Феликс–то, наш бригадир, голову потерял. Ему, видно, Настя от ворот поворот дала. А может, с ним другая какая беда приключилась? Лежит у себя в номере в истерике.
Егор снова повернулся к окну. «Если певцом, так хорошим», вспомнил он слова отца. Отец как будто стоял здесь рядом, Егор слышал его голос: «Простых рабочих не бывает, есть рабочий плохой и есть хороший…»
И ещё он думал: «А Феликс в истерике. Странно: парень и — в истерике».
Егор вздохнул полной грудью, спросил:
— Пять лет, говорите, Павел Павлович?..
— Хорошо, если пять, а то и десять. Искусство, брат, требует от человека всей жизни. И если бы у человека было две жизни, три…
Егор вдруг чертыхнулся, точно его ужалила пчела.
— А, черт! — взмахнул он рукой. И кинулся к шкафу, выхватил оттуда чемодан, стал лихорадочно швырять в него вещи.
— Ты чего, Егор, чего надумал?
— А то и надумал, Павел Павлович!.. Спасибо вам за науку, за все хорошее, — я отбываю на завод…
1С тяжелым и сложным чувством шел на этот раз Феликс Бродов в свой родной цех. Он шел по той же узенькой утоптанной до ледяной склизи тропинке, мимо тех же деревьев — сбросивших листву, почерневших, нехотя шевелящих на ветру голыми ветвями; и тот же знакомый вахтер, тысячу раз заглядывавший ему в глаза, стоит в проходной: — все то же и не то; у него в кармане трудовая книжка с пометкой: «уволен по собственному желанию», он теперь чужой здесь, лишний, отрешенный. Жизнь его покатится по другим дорогам, — может быть, лучшим, солнечным, веселым, но никогда он не вернется на «Молот», не вдохнет настоянный на горячих шлаках воздух, не войдет в это невысокое с виду, но длинное, как река, здание прокатного цеха, не окинет хозяйским взглядом ряды могучих клетей, сверкающие полосы рольгангов, — и нигде не скажет с гордостью: «Старший технолог стана «2000». А если, случалось, что собеседник оказывался человеком несведущим, то он, бывало, делал лукавую мину, улыбался снисходительно. И замечал: «Такой стан один в мире. Другого такого нет!»
«Впрочем…» — высек он из своего сознания надежду, но искра надежды оказалась слабой, озарила на миг и погасла. Правда, погасла она не совсем, — тлела, теплилась в затаенных уголках сердца, и это слабое тепло было для него сейчас единственным источником энергии; благодаря ему он жил, думал, стремился куда–то. Куда?.. Он пока не знал. Все должно решиться через час, два, может быть, через несколько минут. Он вызовет Настю и скажет ей последний раз. Она не может его отвергнуть. Не может, не должна.
По ровному дрожанию земли под ногами он знал: стан идет, работает, на нем все в порядке. Надолго ли?..
Вошел в цех в маленькую дверь со стороны градирни. В кабине черновых клетей в сиянии неоновых огней стояли у приборной панели оба Лаптева — отец и сын. Феликс скользнул под кабину, прошел незамеченным. Не хотел встречаться с Павлом Лаптевым и с сыном его, Егором, видеться не хотел. Егор бросил его в Костроме, предательски уехал. Он потянулся за Настей. Он любит Настю — вот что страшнее всего, и неприятно, и мутит сознание Феликса, гложет его сердце. «Выводить на проектную мощность стан», — вспомнил он объяснение Павла Павловича. А раньше этих срочных дел не было?..
Подошел к тому месту, где до отъезда на гастроли орудовал клещами Егор. Теперь тут на специально сделанном высоком табурете сидел Шота Гогуадзе.
«И безногие в ход пошли!» — в сердцах подумал Феликс. Подошел к Шоте.
— Приветствую вас, Шота Георгиевич! Пожал инвалиду руку. Крепко пожал, дружески.
— Ба! Где же «Видеоруки»?.. — воскликнул Феликс, проводя пальцами по углу металлического каркаса, в котором был заключен телевизионный аппарат.
— Глазок поставили, — кивнул Гогуадзе на приборчик, устремивший стеклянный глаз на край летящего по рольгангам листа.
— Вон глаз, а вон рычаг, — разъяснял Шота бывшему технологу. — Пустяк механизм, а хорошо работает.
Шота при этом взглянул на кабину, за стеклами которой видел своего друга Павла и его сына Егора.
— А вы здесь зачем? — криво ухмыльнулся Феликс.
— Присматриваю. Вдруг перекос будет — поправить надо. Глазок–то молодой, — Шота кивнул на механизм. — Неопытный.
Не отрывая глаз от листа, Шота пододвинул к себе клещи — те же, которыми работал Егор, — добавил: — Случаются ещё перекосы. Махонькие, совсем малюсенькие, но… бывают.
Как раз в этот момент у торца рольгангов послышалось сухое шелестящее шипенье. Шота подставил к краю листа выгнутую часть своего нехитрого инструмента, и лист послушно вошел в колею.
— Ого! — приблизился к рольгангам Феликс. — Раньше во как косило, а теперь, смотри–ка — самую малость!..