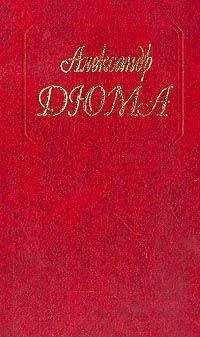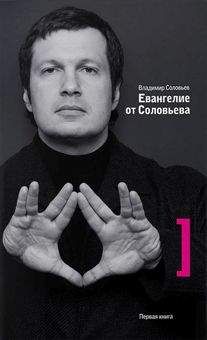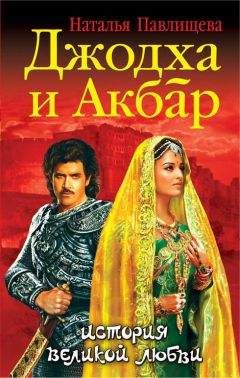Поскольку это во всех отношениях было самым разумным делом, я решил приступить к работе как можно скорее.
Мне только не хотелось идти по собственным следам: то, что я отбросил, так и должно остаться отброшенным.
К тому же в моем сознании произошло немало перемен и перед моим воображением открылись новые горизонты. К моему прежнему познанию человека прибавилось познание мира, почерпнутое мною в течение четырех месяцев подлинной жизни.
Теперь я знал, каким должно быть сочинение, способное понравиться моим современникам: во всяком случае, это была не эпическая поэма, на которую мне пришлось бы потратить лет десять жизни; не трагедия, для постановки которой я не смог бы найти театра; не трактат по сравнительной философии, который мне пришлось бы издать за собственный счет.
Нет, то будет нравоучительное повествование вроде романов Лесажа, Ричардсона или аббата Прево; «Жиль Блаз», «Памела», «Кливленд» — вот что волновало общество, вот что я, с моим знанием человека, сочиню под громкие рукоплескания моих современников.
Кстати, что помешает мне слегка пронизать эту книгу присущим мне духом сатиры, мощным и требующим выхода?! Что помешает мне живописать такого лицемера, как ректор, такого пошлого и подлого выскочку, как управляющий? Бичуя на глазах у всего общества сладострастие и лицемерие, я исполнил бы достойную миссию и перед Богом и перед людьми.
Без сомнений, Бог представил мне кафедру, чтобы громить пороки, но каков горизонт, в пределах которого прогрохотал бы мой гром? Каков круг, внутри которого могла бы поражать моя молния? Неужели это круг и горизонт маленькой деревни?!
Так вот, когда я напишу роман, все будет иначе: мною будет взорван тот круг, в котором я заключен; мною будет разорван горизонт, ограничивающий мои возможности: в романе пойдет речь о Лондоне, об Англии, о Шотландии, об Ирландии — о трех королевствах; аббат Прево переведет мой роман на французский, точно так же как он уже перевел «Клариссу Гарлоу» и «Грандисона».
И тогда моя известность, перешагнув Твид, перешагнув пролив Святого Георга, перелетит затем и через пролив Ла-Манш.
Если меня будут знать во Франции, значит, меня будут знать и во всем мире, ведь Франция — это источник света, лучи которого расходятся по всей Европе; и тогда уважение вместе с удачей будут окружать меня всюду; тогда я смогу не считаться со всеми на свете ректорами и управляющими, тогда я возведу Дженни на позолоченный пьедестал моего богатства и славы.
Я сделаю Дженни царицей мира!..
Ах, дорогой мой Петрус, помнишь, у этого великого философа по имени Лафонтен есть чудная басня, озаглавленная: «Перетта, или Молочный горшок».
Друг мой, сюжет моего романа был определен, план — обдуман, заглавие написано; я уже держал в руке перо, чтобы набросать первые строки; вдохновение пришло и стояло рядом со мной, воздев руки и возведя глаза к Небу, когда неожиданно вошла Дженни; она возвратилась с нашими небогатыми покупками, которые всегда делала сама; я обернулся, услышав, как открывается дверь моего кабинета, и увидел ее бледной, со слезами на глазах…
Мне пришлось отложить перо, поскольку Дженни для меня была прежде всего!
И тут я начинаю испытывать тревогу, расспрашиваю, в чем дело, и узнаю следующее: в Ашборне ходит слух, что мой приход будет преобразован в простой викариат и что вскоре сюда мне на смену будет направлен викарий!
Это и был удар, предсказанный моим хозяином-медником.
Никогда, дорогой мой Петрус, никогда человек не низвергался с более высоких вершин в более глубокую пропасть так, как я!
Если в этом слухе содержалась какая-то доля правды, если меня сместят, если прибудет этот викарий, — я пропал!
Идти к г-ну Смиту и его супруге с просьбой о милосердии, идти, чтобы нашу нищету сделать общей, навязать им как бремя себя, мою жену, ребенка, которого, быть может, пошлет нам Господь, навязать им, нашим добрым дорогим родителям…
Никогда! Уж лучше мне умереть!
Вы понимаете, дорогой мой Петрус, что с такой сумятицей в мыслях, после такого удара прямо в сердце не могло быть и речи о том, чтобы взяться за роман.
События моей собственной жизни приобретали слишком уж болезненный интерес, чтобы мой творческий пыл и воображение посвятить выдуманной чужой истории.
Самым спешным для меня делом — и Вы с этим согласитесь сами, не правда ли? — стало письмо к господину ректору; мне надо было знать, как себя вести в подобных обстоятельствах, и уйти таким образом из-под дамоклова меча, нависшего над моей головой.
Примите во внимание, что дамоклов меч, угрожавший льстецу тирана Дионисия, угрожал лишь ему одному и лишь только во время трапезы.
Но меч, нависший над моей головой, угрожал также моей Дженни, и не только в настоящем, но и в будущем.
Так что я, не медля, написал господину ректору следующее письмо:
«Сударь!
Пишу Вам это письмо, пребывая в душевной тревоге из-за слуха, который вот уже, наверное, два или три дня ходит по нашей деревне.
Не знаю, имеет ли этот слух какое-то основание или зиждется только на разговоре, которого Вы, Ваша честь, удостоили меня во время нашей последней встречи, — разговора, который, признаюсь, породил во мне большие опасения относительно моего будущего.
Говорят, что ашборнский приход будет преобразован в простой викариат.
Подобное решение по отношению ко мне, принятое Вашей честью, несомненно основывалось на каком-то недоброжелательном донесении, направленном против меня; но это донесение, каких бы сторон моей жизни оно ни касалось, я готов опровергнуть публично.
Открытый спор между мною и клеветником, господин ректор, несомненно обеспечит мою победу.
Четыре с половиной месяца — увы, моя злосчастная судьба не предоставила мне более длительной карьеры! — так вот, четыре с половиной месяца я усердно и неуклонно выполнял миссию, возложенную на меня Вашим высоким покровительством; чисто и свято проповедовал я слово
Божье; я старался утешить страждущих; я делил содержимое моего кошелька с бедняками, а когда он пустел, делил с ними мой хлеб; когда же я оставался без хлеба, а такое случалось со мной не раз, я делился с ними моим словом.
Никто не написал ни одной жалобы на меня, ручаюсь за это, поскольку первая жалоба могла бы исходить только от моей совести, а я тщетно вопрошал ее, но она меня ни в чем не обвиняет.
Ваша честь уменьшили мое жалованье на треть, то есть на тридцать фунтов стерлингов, сумму, для меня огромную; я просил, но не роптал; я предоставил Ваше собственное решение Вашему великодушному сердцу и удалился, полный веры в Вашу беспристрастность и, если потребуется, в милосердие Вашей чести.