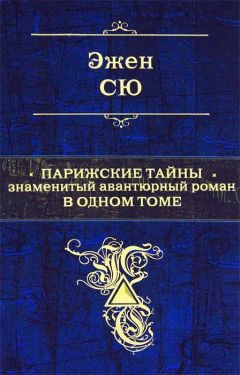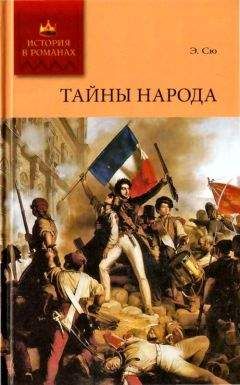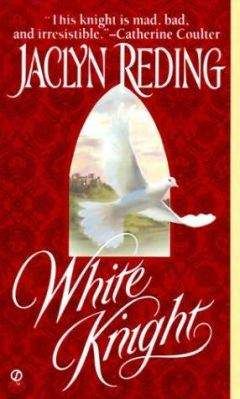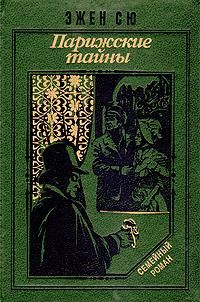Ознакомительная версия.
— Чтобы щипать тебя? — говорит Поножовщик.
— Как бы не так!
— Чтобы вырывать у тебя по волоску?
— Не отгадали! Да и не пробуйте!
— Сдаюсь.
— Сдаемся.
— Чтобы вырвать у меня зуб[30].
Поножовщик разразился такими ругательствами, таким яростными проклятиями, что посетители кабака взглянули на него с удивлением.
— В чем дело? Что с ним такое? — спросила Певунья.
— Что со мной?.. Да ее вглухую[31], эту Сычиху, стоит ей попасть мне в руки!.. Где она? Скажи, Певунья, где она? Только бы мне найти эту чертовку, и я враз ее остужу[32]!
Глаза разбойника налились кровью.
Разделяя чувства Поножовщика, возбужденного жестокостью одноглазой, Родольф был поражен, что бывший убийца пришел в такое неистовство, услышав, что разъяренная старуха собирается вырвать зуб у ребенка.
Нам кажется, что такое чувство возможно, более того, вполне вероятно у жестокого человека.
— И что же, эта старая хрычовка все же вырвала у тебя зуб, бедная девочка? — спросил Родольф.
— Еще бы, конечно, вырвала!.. Но не сразу! Боже мой! Как она корпела надо мной! Голову мою она зажала между коленями точно в тисках. Наконец, с помощью клещей и пальцев, она вытащила у меня зуб, а затем сказала, верно, чтобы напугать меня: «Теперь я буду каждый день вырывать у тебя по зубу, Воровка; а когда ты останешься без зубов, я брошу тебя в воду, и тебя съедят рыбы; они отомстят тебе за то, что ты ходила за червями для наживки». Я вспоминаю о.б этом, потому что такая месть показалась мне несправедливой. Как будто я ходила за червями для своего удовольствия.
— Что за подлюга! — вскричал с еще большей яростью Поножовщик. -Ломать, рвать зубы у ребенка!
— Что ж тут такого? Смотри, ведь теперь ничего не заметно? — проговорила Лилия-Мария.
И, улыбнувшись, она приоткрыла свои розовые губки и показала два ряда маленьких зубов, белых, как жемчужины.
Чем был вызван этот ответ несчастной Певуньи? Беззаботностью, забывчивостью, великодушием? Родольф заметил также, что в ее рассказе не было ни слова ненависти к ужасной женщине, мучившей ее в детстве.
— И что ж ты сделала на следующий день? — спросил Поножовщик.
— Право, я была вконец измучена. Наутро, вместо того чтобы идти за червями, я побежала в сторону Пантеона и шла весь день в одном и том же направлении, до того я боялась Сычихи. Я готова была отправиться на край света, лишь бы не попасть к ней в лапы. Очутилась я на глухой окраине, где не у кого было попросить милостыни, да я и не осмелилась бы это сделать. Ночь я проведа на складе среди штабелей дров. Я была маленькая, как мышка, подлезла под старые ворота и зарылась в кучу древесной коры. Мне так хотелось есть, что я принялась жевать тоненькую стружку, чтобы обмануть голод, но она оказалась слишком жесткой. Мне удалось откусить лишь кусочек березовой коры; березовая кора помягче. И тут я заснула. На рассвете я услышала какой-то шум и заползла дальше в глубь склада. Там было почти жарко, как в подвале. Если бы не голод, я еще никогда не чувствовала себя так хорошо зимой.
— В точности как я в моей гипсовой печи.
— Я не смела выйти со склада: боялась, что Сычиха разыскивает меня, чтобы вырвать мне зубы, а затем бросить в воду на съедение рыбам, и она, конечно, поймает меня, как только я сойду с места.
— Прошу, не говори больше об этой старой ведьме; у меня глаза наливаются кровью!
— Наконец, на другой день, я опять пожевала немного березовой коры и уже стала засыпать, когда меня внезапно разбудил громкий собачий лай. Прислушиваюсь... Собака продолжает лаять, приближаясь к штабелю дров, где я спряталась. Новая напасть! К счастью, собака, не знаю почему, не появлялась... Но ты будешь смеяться, Поножовщик.
— С тобой всегда можно посмеяться... Ты все же славная девочка. И ей-богу, я жалею, что ударил тебя.
— А почему тебе было и не ударить меня? Ведь у меня нет защитника.
— А я? — спросил Родольф.
— Вы очень добры, господин Родольф, но Поножовщик не знал, что вы окажетесь там... да и я не знала.
— Все равно от своих слов я не откажусь... Очень жалею, Что ударил тебя, — повторил Поножовщик.
— Продолжай свой рассказ, детка, — сказал Родольф.
— Итак, я лежала, притулившись под штабелем дров, когда залаяла собака и чей-то грубый голос сказал: «Моя собака лает, кто-то спрятался на складе». — «Наверно, воры», — говорит другой голос. И оба они начинают науськивать собаку: «Пиль! Пиль!»
Собака бежит прямо на меня; испугавшись, я закричала что есть мочи. «Что это? — говорит первый голос, — как будто ребенок кричит...» Мужчины отзывают собаку, идут за фонарем, я выхожу из своего убежища и оказываюсь лицом к лицу с толстым мужчиной и с рабочим в блузе. «Что ты делаешь на моем складе, воровка?» — злобно спрашивает толстый человек. «Мой добрый господин, я не ела уже два дня; я убежала от Сычихи, которая вырвала у меня зуб и хотела бросить в реку на съедение рыбам; мне негде было переночевать, я подлезла под ваши ворота и проспала ночь на куче коры под вашими штабелями; я никому не хотела причинить зла». Тут торговец говорит рабочему: «Меня такими россказнями не проведешь, эта девчонка — воровка, она пришла воровать мои дрова».
— Ах он старый осел, старый болван! — вскричал Поножовщик. — Воровать его поленья, а тебе было всего восемь лет'
— Конечно, он сказал глупость... Рабочий правильно ответил: «Воровать ваши дрова, хозяин? Да откуда у нее силы возьмутся? Она меньше самого мелкого вашего полешка». — «Ты прав, — говорит толстяк. — Но воры часто учат детей шпионить за богатыми людьми и даже прятаться в их домах, чтобы ночью открывать входные двери своим сообщникам. Надо отвести ее в полицию»
— Ну и дурак стоеросовый этот торговец...
— Меня отводят в полицию. Я рассказываю все по порядку, выдаю себя за бродяжку; меня сажают в тюрьму, а затем уголовный суд отправляет меня за бродяжничество в исправительное заведение, где я должна пробыть до шестнадцати лет. Я горячо благодарю судей за их доброту... Еще бы... Понимаешь, в тюрьме меня кормили, никто не бил меня, это был рай по сравнению с чердаком Сычихи. Кроме того, в тюрьме я научилась шить. Но вот беда: я ленилась и любила бездельничать, мне нравилось петь, а не работать, особенно когда светило солнышко... О, если на дворе было ясно, тепло, я не могла удержаться и принималась петь... и тогда... как это ни странно, мне чудилось, что я на воле.
— Иначе говоря, деточка, ты прирожденный соловей, — сказал Родольф улыбаясь.
— Вы очень любезны, господин Родольф; с того времени меня стали звать Певуньей, а не Воровкой. Наконец мне исполняется шестнадцать лет, и я выхожу из тюрьмы... За ее воротами меня встречает здешняя Людоедка и две-три старухи, которые навещали некоторых заключенных, моих приятельниц, и всегда говорили мне, что в день моего освобождения у них найдется для меня работа.
Ознакомительная версия.