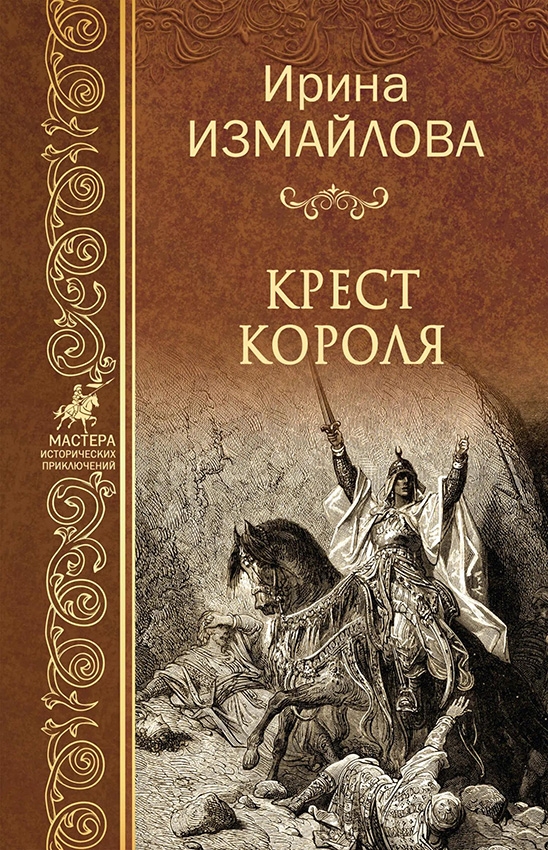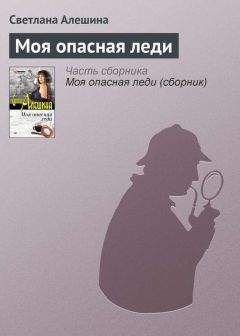своем предположении. Хотя у нас было мало времени… Но если можно, я закончу рассказ о себе, поскольку без этого сложно перейти к делу.
— Давай, давай! — король оторвал часть виноградной грозди и кинул в рот несколько виноградин. — Ты остановился на таком месте, что пока не закончишь, я ни о каких делах слушать не хочу. Что же было с тобой после того, как тебе рассекли затылок, и ты упал?
— Очнулся я ночью. Очнулся от того, что кто-то лижет мне лицо. Это был шакал — он слизывал кровь и, скорее всего, уже подумывал вцепиться в меня. Но я живо разъяснил ему разницу между покойником и живым человеком. Кругом пировали три-четыре сотни таких же тварей, но им хватало добычи. Я сумел перевязать свои раны обрывками одежды и потащился через равнину к горам. Там светились огни селения, однако кто же не знает, что попавшего в плен христианина мусульмане продадут в рабство? У меня было одно желание — уйти подальше от места бойни и либо умереть в одиночестве среди леса и скал, либо как-нибудь добраться до своих. Я верил, что кто-то да уцелел. Иду мимо селения, вдруг слышу отчаянный женский крик. И я, как последний осел, не смог отвернуться и уйти. Оказывается, стая бездомных псов напала на девушку, что шла к колодцу. Собаки — не шакалы: людей не боятся. Меч был при мне, и я отдал этим псам все долги, что не успел отдать сарацинам.
А девушка не убежала. Она подошла ко мне и заговорила. Но я тогда по-арабски почти ничего не понимал. Понял только, что она меня благодарит. И упал без сознания: крови я потерял уйму, а тут еще — эти собаки. Девушку звали Зухра. Она как-то умудрилась притащить меня в свою хижинку и вдвоем с матерью стала приводить в чувство. Но у меня началась лихорадка. Словом, я провалялся у них около трех месяцев. Пока выздоравливал, научился понимать их речь, и мои спасительницы рассказали мне, что множество германских воинов в том страшном сражении были ранены и уведены в плен, а потом проданы в рабство. В их селении таких невольников не оказалось: все здешние жители очень бедны. Зухра с матерью не выдали меня. Наоборот — дали одежду покойного отца девушки, и я в новом наряде вполне сходил за сарацина: лицо загорелое, глаза темные… От этих женщин я узнал, что около пяти тысяч наших во главе с беднягой-герцогом дотащились до лагеря крестоносцев под Птолемиадой. Это было уже не так далеко, и я решил туда добраться. Зухра очень не хотела меня отпускать, но у меня и в мыслях не было… Она, конечно, очень славная девочка.
— Но, надеюсь, девочкой не осталась? — с усмешкой спросил король.
Ответом тоже была усмешка:
— Ты всегда пытаешься казаться хуже, чем ты есть, дружище Анри! Думаю, и ты бы не стал губить шестнадцатилетнюю девчонку за то, что она спасла тебе жизнь. Ведь ничего серьезного там быть не могло. А все, чего мне не хватало, возместила ее матушка. Что так смотришь? Ей было чуть за тридцать, и груди пышнее свежего хлеба. Зухра об этом так и не узнала. Я ушел от них, едва ко мне немного вернулись силы. Шагал два дня, потом почувствовал, что возвращается лихорадка. А тут на дороге — караван. Сарацины везут в Дамаск всякие товары, и среди прочего — шестерых пленных германцев. Оказалось, парни были ранены в том самом сражении, и их, полумертвых, держали несколько месяцев в каком-то селении, в зиндане [12]. Из расчета: умрут — собакам, не умрут — на невольничий рынок. Трудно сказать, что хуже… Семь узников умерли. Эти шестеро выкарабкались. Ну, увидав их, я про лихорадку забыл. И едва кинулся с поднятым мечом на псов-сарацин, как пленники (даром что были в цепях!) тоже на них набросились. Девятерых мы прикончили, человек пять удрали. Кругом — мусульманские селения, полно их воинов. Куда нам деваться? Я сумел разбить цепи на освобожденных германцах. Они были не рыцари, простые ландскнехты [13], однако в один голос заявили, что умрут в бою, но в плен больше не желают. И мы бы умерли скорее всего, как подобает христианам, однако Господь этого не захотел — решил, видно, что еще пригодимся. Показался другой караван, вернее отряд, притом немаленький. И оказалось, что это возвращаются из плена четыре десятка германских рыцарей, которых жители города Тира выкупили у сарацин.
Тельрамунд на мгновение умолк, вспоминая пережитое. Но тут же продолжил:
— Почти все эти люди были ранены или заболели в неволе, поэтому не могли больше участвовать в Крестовом походе, да у них и не оставалось для этого ни оружия, ни доспехов. Их сопровождала охрана — совсем небольшая группа воинов, а во главе ее был… как думаешь, кто? Французский рыцарь Луи Шато-Крайон! Епископ Вильгельм благословил его сопроводить германцев до христианских земель. Я и шестеро отбитых мною пленников попросили позволения присоединиться к отряду. Луи позволил, не раздумывая, хотя продовольствия у них было немного и вблизи не предвиделось места, где бы он мог эти запасы пополнить. Удивительный парень, скажу я тебе, друг мой Анри! Он видел, что мы, все семеро, еле живы от ран, голода, лихорадки, и приказал своим воинам на первый переход отдать нам лошадей. Потом ухитрился купить у сарацин мулов. А по дороге раздавал из своего кошелька золото, что дал ему в награду за подвиги и доблесть герцог Швабский. Осторожно расспрашивал наших рыцарей, ждет ли их дома родня, да есть ли им, на что жить дальше. И одаривал деньгами. Да как! Со словами: «Не погубите душу бедного рыцаря, дозвольте заслужить Царство Небесное!» Ну как тут не возьмешь? В благодарность за все это я научил его тому искусству, которому так и не сумел обучить тебя: метанию ножа. Это не всем удается. А у него — просто Божий дар!
— Еще бы! — воскликнул, невольно прервав рассказчика, король Иерусалимский. — Думаю, ты порадуешься, узнав, что с помощью этого искусства Луи и сумел спасти Ричарда Львиное Сердце. Он метнул кинжал в ассасина, когда тот уже готов был дунуть в короля своей ядовитой колючкой.
Фридрих глотнул вина и улыбнулся.