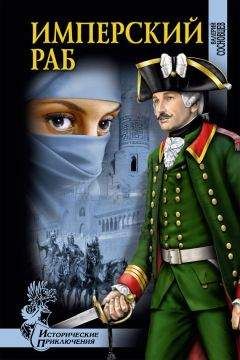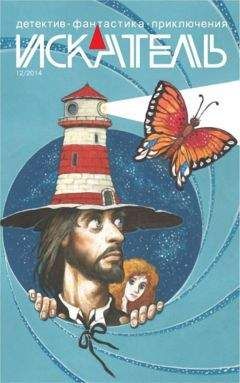Ефрем проверил свои догадки в первые же недели неволи. Он понимал, что о его повадках будет доложено со всеми подробностями. От этого будет зависеть его судьба и судьба задуманного предприятия.
Спустя месяц, к приказчику, державшему Ефрема, прибыл есаул от ходжи Гафура с небольшим конвоем и увез русского в Бухару.
* * *
Дом ходжи Гафура был богат. За высоким дувалом с деревянными воротами и калиткой, покрытыми тонкой резьбой и разноцветным крашеным орнаментом, устроен просторный сад. Посреди сада – небольшой бассейн. Охватывая бассейн с трех сторон, располагался большой, двухъярусный дом. Второй ярус поддерживался деревянными колоннами и арками, тоже испещренными резным замысловатым узором. В безлесном этом краю дерево ценилось дорого, поэтому при строительстве и в быту оно тщательно украшалось. Все кругом чисто выметено, дорожки вымощены плоскими плитками из обоженной глины. Слуги ходят без шума и суеты. Все располагает к спокойствию и неге. Ефрем отметил про себя, что внутреннее убранство домов здешней знати предназначено создать мир и покой взору, дать отдых душе. Дом предназначен служить его хозяину, а не на зависть соседям. Для внешнего куражу больше служит одежда, богатая упряжь и оружие, множество слуг в сопровождении. Не внешний вид дома, а наличие гарема в нем – вот что признак богатства. Дом же – это жилище и собственный мир. Что внутри дома – должно быть тайной для окружающих. Только дворцы ханов, эмиров выделялись внешней роскошью. Тем подчеркивалась высшая власть.
С первых минут в доме Гафура Филиппов почувствовал жесткость в обращении. Никто не кричал на него, но и не разговаривал подолгу. Его поместили в какую-то узкую каморку позади дома, слуга принес лепешку и глиняный кувшин с водой. Ушел, дверь не закрыл, присел неподалеку на корточки. Он не смотрел в сторону нового невольника, но Ефрем понимал: сторожит. Было холодно. Уже вечером, истомленного ожиданием и неизвестностью, продрогшего Ефрема привели в покои.
В большой комнате с узкими окнами, украшенными узорами и разноцветными стеклами, с завешанными коврами стенами, было тепло. На просторном диване, в груде подушек, развалясь сидел сам хозяин – ходжа Гафур – полноватый мужчина лет тридцати, с густой подстриженной черной бородой. Рядом с ним в шелковом зеленом халате и белой чалме сидел старик с белой как полотно небольшой бородой на очень смуглом лице. Сидел свободно, но не развязно. У обоих на ногах богатые сапоги. Перед ними резной столик с фруктами. Ефрем удивился. Он ожидал увидеть роскошные одеяния на хозяине, но тот был одет в дорогой неяркий малиновый халат, на голове маленькая круглая шапочка с цветной вышивкой, на указательных пальцах обеих рук по два небольших перстня, в руках янтарные четки. Комната ярко освещена настенными масляными светильниками. Позади господина стоял здоровенный детина с саблей у пояса, в доспехе и шлеме – телохранитель.
Слуга, приведший Ефрема, остановил его в трех шагах от сидевших, резко надавив ему на плечи, заставил опустится на колени, ткнул в затылок, согнув в поклон и отошел на шаг. Ходжа знаком руки отправил его. Слуга тихо вышел, тщательно прикрыв узорчатую дверь. Некоторое время Ефрем сидел в тишине, не шевелясь.
– Распрямись, – услышал он голос хозяина.
Старик перевел, но Ефрем понял и без перевода. Он поднял голову. Ходжа еще помолчал, казалось, бесстрастно разглядывая раба, потом спросил:
– Расскажи кто ты и откуда?
Старик перевел. Ефрем отметил, что он говорил по-русски свободно.
Обращаясь прямо к ходже, Филиппов на сносном бухарском коротко рассказал, кто он и откуда. Как ни изображали хозяева спокойствие на лицах, но от пленника не укрылось приятное удивление в их глазах. Они были извещены, что Ефрем освоился в языке. Но так быстро и хорошо не ожидали! Это вызывало уважение и любопвтство пополам с опасением.
– Ты ловко говоришь по-нашему…Где сему нучился? – спросил Гафур.
– До того, как в плен попасть, почитай, что с детства по-татарски знаю, а ваш язык схожий во многом. В плену я уже два месяца да прежде того ваших торговых людей в городе Оренбурге много видывал, вот и выучил.
– Говорят, в России бунт великий случился. Правда ли, что муж вашей нынешней царицы, ею свергнутый, на нее казаков с Яика поднял? – задал новый вопрос Гафур.
– Бунт большой был, это верно, – ответил Филиппов. – Только не настоящий царь то сотворил. Настоящий давно помер, вот и стала править его законная жена, императрица наша нынешняя. А бунт учинили воры и разбойники во главе с самозванцем. Беглый вор объявил себя царем, чтобы привлечь к себе народу поболее, но казаки с Яика не все его поддержали… Когда я в полон угодил, его уже громить начали… Меня пленили…
– Я знаю, как ты попал в плен к кочевникам, – перебил его Гафур. – Знаю также, что уговорил ты их за выкуп вернуть своих товарищей на родину. – Тон ходжи становился все жестче. – Почему же за больший выкуп не уговорил их и тебя освободить?…Будто нарочно уходил от своих… и язык наш тебе ведом!.. А не подослан ли ты к нам случаем, а?! – нахмурившись, закончил он почти зло.
Ефрем почувствовал сосущий комок под ложечкой. Во рту пересохло. Он давно понял, что здесь не церемонятся, и пытка, если захотят, будет ужасной. Или просто зарежут как барана и не почешутся. «Видать, ошибался ты, Ефремка, когда рассуждал, сидя с Потемкиным. Когда Григорий-то Александрович ужасался, все понимал он лучше тебя, мил друг!» – мелькнуло у него в голове. Не удержав волнения, вслух сказал:
– Помилуй, господин, кто-то оговорил меня перед тобой, все не так на самом деле…
– Оговорил?! – вскричал Гафур. – У меня по-твоему своего разума нет, если я всем разговорам только и верю?… Говори тогда уж и ты, как было! Но учти, гяур нечистый, если увижу, что врешь – сдохнешь под пыткой!
– Меня прислали служить в Оренбург потому, что язык кочевников знаю. Начальство меня не больно жаловало. Не любило мое начальство, что я грамоте обучен, – Гафур слегка повел бровью, Филиппов заметил, – вот и взъелось оно на меня. Тут бунт на Яике случился. Меня и постарались с глаз долой спровадить, под пули, значит… Коль ты знаешь, как я к кочевникам попал, то, верно, сказывали тебе и про то, что чуть не убили меня бунтовщики… И в полон я не своей волей напросился… А выкупа за меня все равно не дали бы. Перво-наперво потому, что некому заплатить, а второе, что ежели меня само начальство заедало, ужели поверили бы в то, что не изменял я присяге, не струсил?.. Не-е-т, мне все едино уже тогда петля была бы! А плен – не всегда могила!.. Коль на родину путь заказан, то к новой жизни приспосабливаться надобно. Я так рассуждал, господин мой.