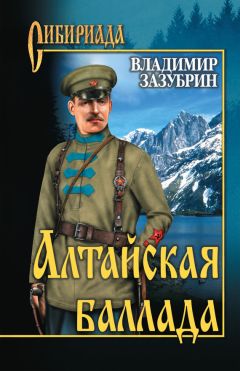Ознакомительная версия.
Гаврюхин струсил. Лицо испуганное, посеревшее, как мукой обсыпанное.
– Да если ты… Да если я еще услышу… Да я тебя, сучья рожа, в тюрьме сгною…
Трясущийся, тщедушный Гаврюхин, дрожащими руками дергающий жидкие усишки, был гадок. Хотелось ударить, прогнать. Сдержался. Не было, не хватало работников.
В Упродкоме, в кабинете, подписывая бумаги, рассказал Латчину. Латчин почтительно изогнулся, приложил руку к сердцу.
– Конечно, это гадость. Но тем не менее, товарищ Аверьянов, вам надо лучше питаться. Выглядите вы очень скверно.
Аверьянов покраснел, точно ему стало стыдно от того, что он плохо выглядит. На Латчина посмотрел смущенно, ласково.
– Разве?
– Конечно. Знаете, что я вам предложу. Не сочтите только это за гаврюхинскую гнусность. Приходите сегодня ко мне обедать. Я вас угощу.
Улыбнулся, поднял голову.
– Не подумайте только, что краденым. Жене родные кое-что из деревни привезли. Право, приходите запросто покушать. Не грех…
Хорошо сказал Латчин. Как приласкал, как по голове погладил. И правду сказать – ныла последнее время дважды простреленная грудь, кровью иногда харкал, в глазах часто круги зеленые ходили, а под глазами не сходили синие. Паек мал. Много работы. Работы много больше, чем в кузнице, чем на фронте. Сразу стало как-то жалко себя, разбередилось что-то внутри больное. Вот так же иногда бывало в окопе, в германскую войну, когда ночью в затишье лежал один и думал. Вспомнил жену, детей – погибли от тифа в тайге во время скитаний, во время борьбы с белыми. Хорошо говорит Латчин, как отец ласкает. Никого нет у Аверьянова. Бобыль. Плакать хочется. Не помнил, как сказал:
– Да, приду.
Да, на фронте или на работе, когда не думаешь о себе, то и ничего, так и надо. Задумаешься – плохо. Нет, лучше не надо. Эх, разбередил…
Неловкость какую-то почувствовал, когда подходил к квартире Латчина. Обстановка у него барская. Кресла, креслица, столы, столики, и круглые, и четырех– и треугольные, и какие-то игрушки, финтифлюшки кругом, кружева, занавески – негде повернуться, не знаешь, куда и сесть. Тесно и неловко. И Латчин, хоть и секретарь его, хоть и подчинен ему, а все-таки барин. Жена же – барыня настоящая. Пухлая, круглая, белая, надушенная, шуршащая шелком, сверкающая драгоценными камнями. Когда здоровался, показалось, что рука у нее резиновая, надутая воздухом. Мнется, мягкая, холодная, и костей нет.
– Серафима Сергеевна – моя жена.
Латчины приняли Аверьянова ласково. Усадили за стол с белоснежной скатертью. Иван Михайлович сел напротив, стал угощать хорошим табаком. Серафима Сергеевна загремела посудой. Поблескивая кольцами и тарелками, не торопясь, ходила около стола.
– Мы без прислуги живем. Вы не смотрите на меня как на барыню. Я все могу делать.
Латчин смотрит то на жену, то на Аверьянова, с улыбкой расправляет плечи, грудь, поднимает голову. Под подбородком у него надувается жирный синеватый вал. Аверьянов чувствует, что Латчин хочет без слов сказать ему – смотри, какая у меня хорошая жена. Аверьянов молчит, курит, не знает, что говорить. Табак вот действительно хорош у Латчина. А Серафима Сергеевна уже поставила на стол миску с супом.
– Разрешите, я вам налью, т… то… простите, как вас по имени отчеству?
– Николай Иванович.
Отчего-то покраснел, уронил на скатерть горячий пепел.
Неловко замахал длинной корявой рукой, сшиб со стола ложку.
Зазвенело серебро на полу – засмеялось.
Нагнулся поднимать – стукнулся головой об стол. Стыд, стыд. Лучше бы провалиться. Ложку взять не успел. Латчин, улыбающийся, покрасневший, уже поднимался из-за стола. Ложка у него в руках блестит-смеется. Но Латчин серьезен, озабочен, ласков.
– Ничего, ничего, Николай Иванович. Сима, дай чистую.
На столе засверкал граненый графин с разведенным спиртом. Аверьянов не заметил, кто и когда его поставил. Латчин внимательно, как тяжелобольному, заглядывает в глаза.
– Николай Иванович, пропустим по маленькой для аппетита. А?
А сам уже налил. Аверьянов не пил давно – захотелось. Где-то мелькнула мысль – для храбрости. Выпили по одной. Повторили. И еще по одной, и еще, и еще. Серафима Сергеевна не отставала. Аверьянову было смешно, что пила она морщась и, поднимая рюмку ко рту, далеко отставляла маленький пухлый мизинец. Закусывали вкусным вареным мясом с солеными огурцами и грибами. Аверьянов молчал, но пил и ел жадно. Латчин подливал спирт, занимал разговором.
– Да, ворья у нас в Продкоме порядочно. На днях вот была история с Прицепой. Я вам не докладывал – пустяк. Он прицепился к одному налогоплательщику. Давай, говорит, лошадьми меняться, а то скидку на сено сделаю.
Аверьянов проворчал:
– Выгнать надо.
Вступилась Серафима Сергеевна:
– Ну как вы жестоки, Николай Иванович. Ведь Прицепа пошел на это с голоду. Вы подумайте, сколько ваши служащие получают?
Аверьянов неожиданно грубо спросил:
– А у вас родственники в деревне? Привозят?
Напудренное лицо Латчиной, белое, кругловатое, как яйцо. Брови на нем резкими подчерненными дужками. Глаза – черные кружочки.
– Ну да, родственники… привозят. А что?
– А спирт у вас откуда?
Спросил и разозлился. Что-то липкое, раздражающее было в глазах Серафимы Сергеевны. Латчин, в белой, чесучовой рубахе, улыбнулся, показал крепкие желтоватые зубы, ответил:
– Спирт, Николай Иванович, я, уж извините, специально для вас взял в Продкоме у завхоза. Для такого гостя, думаю…
Аверьянов сморщился, затеребил усы.
– Сердитесь, Николай Иванович? Напрасно. Спирт у нас для рабочих на бойне. Расходуется безотчетно. И неужели мы с вами не заслужили эту несчастную бутылку?
Голос у Латчина мягкий, глаза ласковые. Пожалуй, он и прав. Неужели не заслужил? Что это я на них разозлился?
– Вы меня извините, я человек грубый. Негде было учиться вежливости.
Латчины оба к нему. Дернулись, наклонились над столом. Протягивают руки с рюмками, улыбаются. И в один голос:
– Полно вам, Николай Иванович… Мы всегда всей душой… Да разве мы… Пейте…
Спирт горячий, суп горячий. Горячо в желудке, горячо в голове. Кружится голова. А Латчины липнут, липнут, наливают. Тяжело сидеть, окаменел, прирос к стулу. Скатерть белая, рубашка у Латчина белая, кофточка у Латчиной белая, руки белые, лица белые. Бело, бело в глазах. Булькает в графине спирт. Булькает в ушах. Уснуть бы…
Потом пошло по шаблонной скучноватой схемке:
Утром проснулся в квартире, в постели Латчина. С трудом сообразил, почему и как.
За утренним чаем не смог отказаться от настойчивых приглашений Латчиных переехать к ним на квартиру.
Переехал на квартиру к Латчиным.
Стал жить у Латчиных «на полном пансионе». (Ведь Латчин уверил, что жена у него прекрасная хозяйка, сможет устроить приличный стол из двух пайков и некоторой добавки из деревни от родственников. Латчин уверил, что за некоторую часть добавки Аверьянов с ним расплатится, когда будет улучшено положение ответственных работников. Латчин доказал, что ничего предосудительного в этом нет, что это просто-напросто товарищеская взаимопомощь.)
Ознакомительная версия.