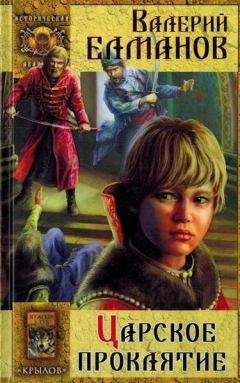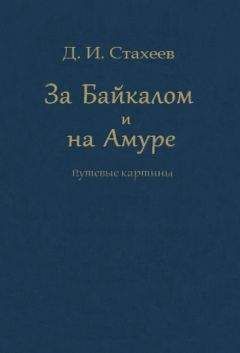— Чем более им будем давать свою душу тешить, тем менее они нам палки в колеса вставлять учнут, — пояснил он еще два дня назад.
На Лобном месте тоже началось все не сразу. Поначалу отслужили молебен. Лишь после него Иоанн, чуточку робея, но громко и отчетливо обратился к митрополиту.
— Святой владыко! Знаю усердие твое ко благу и любовь к отечеству, будь же мне поборником в моих благих намерениях. Рано бог лишил меня отца и матери, а бояре именитые не радели обо мне, хотели быть самовластными, моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ — и никто не претил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым, не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих!
Произнес, покосился на поморщившегося князя Палецкого, стоявшего в боярской толпе на том же помосте, и сам понял — не то. И гладко, и складно, но не было какого-то глубинного такта, недоставало самого важного.
Смешавшись, он начал было продолжать, но со все сильнее возрастающим чувством досады понимал — не так и, главное — не о том. Выходило, будто он оправдывается, точно на судилище, где его винят во всевозможных грехах, и винят справедливо, а он тут лепечет какие-то жалкие словеса и наивно надеется, что эти детские отговорки ему помогут.
А потом вдруг понял — не разумом говорить надо, ибо ум взывает к уму и ни к чему больше. До душ людских он достучаться не силах — недоступно ему, ибо он холоден, и нет у него глубинного тепла. Так о каком тогда можно вести речь покаянии, примирении и всеобщем братстве, призыв к которым должен идти от сердца и только от него?
Он медленно и неторопливо поклонился на все четыре стороны, пусть невпопад, и поклоны эти совершенно не совмещались со смыслом речи, и продолжил, мысленно отметая все заготовленное, и говоря совсем иное — то, что уже просилось из сердца:
— Люди божии и нам дарованные богом! Молю вашу веру к богу и вашу любовь к нам…
Слова полились чуть ли не помимо его воли, будто говорил не он, а кто-то иной, гораздо умнее и гораздо мудрее, он с радостью и облегчением почувствовал — оно! Это было именно то, что нужно, то, что он хотел сказать, а может, и больше того.
О таком Иоанн и не помышлял.
Казалось, что не только люди, но и сама природа внимает его речи. Даже ветер, и тот утих, заслушавшись юного красавца царя. Что уж тут говорить о народе, который, затаив дыхание, вслушивался не в голос государя, но в душу его.
Мгновенно на площади воцарилась необычайная, особая тишина. В народе такую мудро принято называть мертвой или гробовой. То не зря, не оговорка. В эти мгновения на время замирает все тело, до того замирает, что человек — и сказано это не для красного словца — забывает даже дышать, но зато внимает его душа, которая воспаряет над телесным естеством, ликуя в своем кратком торжестве духа над плотью. И души внимали, жадно ловя каждое слово Иоанна, который, оказывается… нет, тут и слов не сыскать, кем оказался на деле недавний злобный насмешливый наездник, ради забавы топчущий простой московский люд и столь скорый на расправу даже со своим ближним окружением.
— Теперь нам ваших обид, разорений и прочих утиснений исправить нельзя, но молю вас, забудьте, чего уже нет и не будет! Могу только впредь спасать вас от притеснений и грабительств. Оставьте ненависть, вражду — соединимся все любовью христианской. Отныне я судия ваш и защитник. Обнимемся же по-братски все, кто здесь собрался, и ныне, в сей светлый день, приступим, очищенные от грехов и преисполнив души покаянием к трудам тяжким во благо святой Руси…
В тот же день Иоанн объявил о том, что повелевает создать Челобитный приказ, и произнес, обращаясь к Алексею Адашеву:
— Алексий! Ведаю, что ты не знатен и не богат, но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое не по твоему желанию, но в помощь душе моей, которая стремится к таким людям, дабы утолить ее скорбь о несчастных, коих судьба мне вверена богом! Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют. Да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в аависти клевещет на богатого! Все рачительно испытывай и доноси мне истину, страшася единственно суда божия.
И работа закипела.
…Дорогой ценой заплатили москвичи за этот краткий миг духовного единения. Как бы потом ни чудачествовал в своих злобных затеях государь — ныне ему уже отпустили его вины — и прошлые, и оудущие, выдав индульгенцию хоть на двадцать лег, хоть на пятьдесят, хоть на сто.
Иные плакали от умиления, иные после весь остаток дня бродили по улицам, а встречая соседей или просто знакомцев, так обнимались и целовались, словно пережили долгую разлуку. И пело что-то у каждого в ушах, доносившееся невесть откуда. Пело чарующе и сладко — ни грустно, ни весело, но будто молитва, исполняемая небесным хором.
Кто, не понимая, грубовато замечал, поглядывая на небо:
— Эвон как птицы ныне раскурлыкались.
Иные, посмышленее, помалкивали и только слушали, чтоб не расплескать и громким голосом, упаси боже, не потревожить чудную мелодию, доносившуюся до них. Мелодию собственной разбуженной души…
И бегал по улицам вприпрыжку юродивый Васятка, крича во весь голос:
— Любо, братцы! Ой, как любо!
Где он только не появился в тот день. Сказывали, что видели его на Кузнецком мосту, другие божились, что чуть ли не в то же время обретался он в Занеглименье, кто-то — и снова в эти же часы, видел юродивого у Покровских ворот Китай-города, чудовские же старцы и вовсе уверяли, что блаженный почитай весь день провел совсем рядом с ними, то отбегая напротив к Разрядной избе, то вновь подбегая к монастырю.
А к вечеру его застали плачущим. Рыдал он горько, навзрыд, по-детски, стоя на своем прежнем, привычном месте — на паперти церкви святой Троицы. Пытающимся его утешить он жаловался, что его-то он отмолит, а на детишков силов нет, а уж как ему жаль детишков этих, кои ни в чем не повинны. На вопросы же, кого «его» и чьих детишков, он лишь досадливо отмахивался, ничего не объясняя и не рассказывая.
Но мало кто обращал внимание на невнятное бормотание юродивого. В иной другой день — да, тут уж непременно бы пошли слухи и разговоры, а в этот…
Уж слишком велика была радость.
Жизнь посулила Руси все начать с чистого листа, да не с простого — с красного…
Конец первой книги
Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М. 1963. С. 95.
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 104.