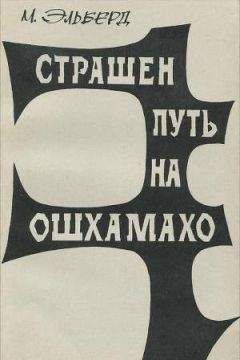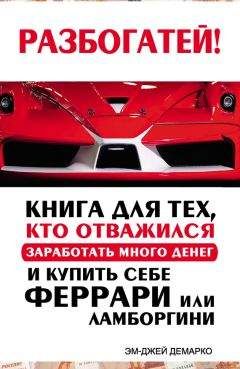— Ничего, — вздохнул Каплан-Гирей, — будет служить у нас — станет более воспитанным. Вот как этот, — хан кивнул на Шогенукова.
Кубати отрицательно, но без вызова покачал головой.
— Мы у тебя не спрашиваем сейчас согласия, — чуть раздраженно сказал хан. — Посидишь до осени на весельной палубе нашего каика и подумаешь. Уведите. И без того мы потратили на этого юного гордеца слишком много слов.
Кубати увели, а Шогенуков получил в тот же вечер щедрые ханские дары.
Князь ликовал, ему и не снилось распорядиться судьбой Кубати настолько выгодно. Еще по дороге к морю он разуверился в том, что сможет выпытать у парня тайну панциря. По всей вероятности, мальчишка и сам ничего не знает… Лишь одно обстоятельство удручало Алигоко Вшиголового: придется сидеть в этом пыльном и вонючем приморском поселении все лето. Не сейчас хотят крымцы двинуть на Кабарду свое войско. Хан решил выждать, пока созреет и будет убран кабардинскими крестьянами урожай. Им пригодятся лишние запасы зерна, когда они двинут свои полчища на московитов.
Обиды и притязания Алигота мало беспокоили князя: «Ничего, пучеглазый! Как-нибудь договоримся. Не впервой дурить твою умную голову. Все равно на моей будешь арбе ехать и петь, сам того не зная, мою песню».
* * *
На весельной палубе — смрад и духота. Ряды гребцов — по четыре в каждом — терялись в сумраке низкого помещения. Кубати усадили на ближнюю к люку скамью, у прохода. Здесь одного гребца не хватало. Он покосился вправо, туда, где было вырублено окошко для тяжелого весла, и чуть не вскрикнул: в лицо ему грустно улыбался Куанч. Их разлучили еще утром. Значит, Шогенуков сегодня даром времени не терял.
Прямо напротив Кубати сидел лохматый и бородатый детина лет пятидесяти с пронзительно голубыми любопытными глазами и курносым носом. Когда он слегка повернулся и свалявшиеся русые патлы его волос чуть раздвинулись, Кубати заметил, что у мужчины нет одного уха, а левую щеку украшает диковинного вида шрам, похожий на кружок с хвостиком наверху.
На каждое весло приходилось по четыре гребца, сидящих попарно лицом друг к другу. От вделанных в пол колец шли цепи, которые прикреплялись к железному обручу, охватывавшему пояс гребца. Обруч состоял из двух половинок, которые складывались вместе и замыкались на ключ.
Скоро и Кубати был надежно приобщен к скамье, на которой ему предстояло и есть, и спать, и трудиться и поте лица, а отдыхать лишь при попутном ветре, когда судно шло под Парусами.
Надсмотрщик, огромный и толстый боров, щелкнул ключом и повесил его на связку у пояса, за который была заткнута тяжелая рукоять длиннейшего бича.
Кто-то швырнул сверху лохань с полупропеченным ячменным тестом. Боров-надсмотрщик отправился в дальний конец палубы раздавать еду.
— Уадыга?[144] — спросил мужчина напротив, — Я так и думал. Кого только не перевидал тут. На всех языках научился болтать. И на черкесском тоже. Меня Жихарь зовут. Урус я. Этот, — он ткнул пальцем в Куанча, — малкар, я уже знаю. А ты откуда? Из Кабардея? Ага, понятно…
В это время надсмотрщик дошел до их ряда. Жихарь поставил ладони, и в руки ему шлепнулся комок теста.
— Эй, ты, держи! — рявкнул над ухом Кубати грубый голос. От этого — тоже равноправного детища рода человеческого — разило потом, чесноком и гнилыми зубами.
Тесто упало Кубати на колени. Еще за мгновение до этого у парня и в мыслях ничего подобного не было, а тут он схватил тесто и с силой залепил глаза надсмотрщику. Не теряя времени, привстал, ухватил левой рукой за шею, рванул вниз, подхватил правой под челюсть и в загривке у борова что-то тихо хрустнуло, и он всей своей тяжелой тушей грохнулся на пол, растянулся в проходе.
Не зевал и Жихарь: связка с ключами оказалась у него руках еще, кажется, раньше, чем надсмотрщик упал. Нужные ключи Жихарь тоже отыскал быстро.
Отомкнув свой пояс, Кубати и Куанча, бросил связку в проход.
Галерники шумно и глупо загалдели, к ключам потянулось сразу несколько рук.
На верхнюю, открытую, палубу выскочили без оглядки, неосторожно, как три джина из одной бутылки. Совсем не думали о стражниках, но беглецам повезло: караульные были в это время в другой части судна.
Кубати, теперь неслышно ступая, направился прямо к сходням. Еще не успев спуститься на причал, он заметил, что вся эта часть берега битком набита охранниками — было их десятка три, не меньше. Правда, службу они несли не слишком добросовестно. Некоторые спали, привалившись спинами к грудам каких-то мешков, трое сидящих ближе всех к кораблю, у небольшого костерка, играли в кости. А вот там, из-за кучи непонятного хлама, поднимаются в ночное небо тоненькие голубые дымки, отчетливо видные в лучах лунного света. Это несколько стражников предавались губительному пороку: курили гашиш.
Об отступлении не могло быть и речи. Кубати сделал знак товарищам и спокойным шагом человека, который знает, куда и зачем идет, зашагал мимо костра. Жихарь, едва ступив на твердую землю, закачался, как пьяный, и, наверное, упал бы, если б Куанч не поддержал его.
— Э?! — спросил один из стражников. — Куда это, а?
Зашевелились и остальные.
Спасительная ложь прозвучала в устах Куанча так просто и естественно, словно была придумана заранее:
— Вот у этого, — он кивнул на пошатывающегося Жихаря, — чума началась. А мы с хакимом[145], — он кивнул на отлично одетого Кубати, — уводим его отсюда. Еще всех тут галерников заразит…
— О, аллах… — прошептал стражник и отскочил в сторону.
Его товарищи, сидевшие у костра, попятились на четвереньках в темноту, высоко задрав свои тугие зады.
Да и то — зрелище было впечатляющим: полуголый волосатый мужик с мутным взором и отвисшей челюстью, с непослушными ногами (еще бы, восемь лет не ступал на твердую землю!) — такой кого хочешь испугает. И вдруг этот мужик (он понял, какую игру ему надо играть) издает леденящий душу стон и закатывает глаза так, что видны одни лишь огромные белки с красными прожилками: надо же, как удачно совпало, — он у самого костра все это проделал и его лицо было видно очень ясно.
Беглецы благополучно миновали охраняемую часть берега, и лишь тогда на судне заметались огни факелов, послышались крики, лязг металла, выстрелы — шум неизбежной свалки. Значит, толпа каторжников хлынула на палубу.
Судьба в эту ночь выкидывала кости для нашей троицы шестерками вверх. В конце темного переулка, на выгоне, паслись стреноженные лошади. Тут же дремал под деревом, преклонив голову на седло, беспечный коновод — молодой парень в ветхой одежонке. Его быстро «стреножили» и заткнули рот полой собственного чекменя. Забрали валявшиеся тут же, на земле, уздечки.