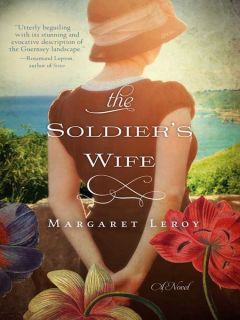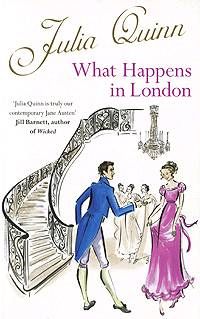— Валентин уже возле Константинополя, — доложили к полуночи. — Его удерживают лишь варвары Амра — выясняют, надо ли пропускать его легионы в город.
Это давало надежду.
— Варвары пропустили Валентина, — доложили через три часа, — сочли своим союзником.
Это отнимало надежду.
— Валентин не хочет брать у тебя денег, — услышала она к четырем утра, — но его сотники не против получить какие-то подарки.
И это был самый сложный момент, потому что становилось неясно, есть ли у тебя надежда. А едва взошло солнце, императрице доложили, что флот Теодора входит в гавань, и Мартина почувствовала, что прямо сейчас все и решится.
— Приведите Грегорию, — распорядилась она, и ее сноха тут же вошла в зал — так, словно ждала за дверью.
— Я не знаю, должна ли это говорить…
Мартине не надо было приглядываться, чтобы видеть: лица на снохе нет.
— Ты о Теодоре?
— Нет, — покачала головой Грегория, — я о своих.
Внутри у императрицы похолодело. Пахло предательством.
— Говори.
— Мои братья говорили и с людьми Аршакуни, и с людьми Теодора — еще вчера. Сразу после коронации.
Мартина замерла, а Грегория собралась с силами и выдохнула последнее:
— Они сговорились вернуться к священным обычаям наших матерей.
— Что?! — приподнялась императрица. — Они хотят снова передавать власть по матери?!
Грегория молча кивнула.
Мартина бессильно осела на трон. Хуже этого ничего придумать было нельзя, но это был единственный способ придать видимость законности назревающему смещению потомства Ираклия. За ним должна была последовать резня и быстрый распад единой страны на мелкие отдельные провинции — строго по материнским линиям…
— Почему ты не сказала об этом вчера?
— Аршакуни и Теодор согласились не трогать моих детей и даже оставить Констанса на троне.
Императрица закрыла лицо руками. Это означало, что ее саму и ее детей ждет то же, что все узурпаторы до единого делали до Ираклия.
— Спасибо, Грегория… — тихо произнесла она, — спасибо, что все-таки предупредила.
Сноха бесшумно скрылась за дверью, и Мартина решительно поднялась с резного трона, подала знак преданным гвардейцам-эфиопам и прошла в спальню к мальчикам.
— Вставайте, дети. Поднимайся, Ираклонас, помоги Давиду одеться…
— Я не прислуга… — буркнул спросонья пятнадцатилетний император. — Где наша Клавдия?
— Клавдии не обязательно знать, что вы уезжаете.
— Куда? — мгновенно проснулся Ираклонас.
Мартина поджала губы. Еще вчера она бы не поверила, что сделает это, но сегодня было только одно место, где ее детям ничего не грозило.
* * *
Симон спрыгнул на причал первым, прошел пять-шесть шагов и сразу почуял, откуда Ей грозит беда. Да, формально в кишащем тысячами наемников и уже пылающем Кархедоне опасность была повсюду: руководимые святыми отцами солдаты грабили и поджигали дома несториан, евреев, донатистов и прочих врагов Спасителя. Однако Симон не имел права отвлекаться на чужую смерть; ему следовало чуять главное — точное направление пути, по которому угроза движется именно к Ней.
— За мной! — приказал он и перешел на бег.
И воины сопровождения, двумя параллельные колоннами, один за другим спрыгивали на каменный причал и так же бегом, с обтянутыми кожей щитами наперевес двинулись за ним.
— Туда! — указал Симон на проулок и первым рванулся вперед.
Он и не взялся бы сказать, как, чем он это чувствует и знает. Знание — финальная награда за двадцать восемь лет жесточайшей аскезы духа — просто жило в нем так же, как зрение, слух или обоняние.
— Здесь! — повернул он в следующий проулок и неожиданно врезался в гущу нетрезвых итальянских наемников.
— Смотри-ка, жид! — заорал один, ткнул грязным пальцем в сторону покатого амхарского носа Симона и потянулся за коротким солдатским мечом — А ну, иди сюда…
В следующие несколько мгновений и наемник, и его товарищи были яростно изрублены в куски аравитянами и армянами. После беседы с Симоном на корабле воины понимали, какова цена промедления. А едва Симон выбежал на ту самую площадь, на которой не так давно, на его глазах рассекали укравшего Елену солдата, он остро пожалел, что не может просто подняться в воздух и полететь. В центре площади хищно шевелилась гомонящая толпа наемников, и он чуял: она там, внутри!
* * *
Когда дети были одеты и собраны в путь, а преданные ей гвардейцы-эфиопы встали в дверях потайного хода, Мартина схватила желтый папирусный листок и стремительно вывела единственное спасительное имя.
«Аиша, сестра…
Я знаю о тебе немного, почти ничего. Я знаю, что ты — вдова, как и я. Я знаю, что твой муж был великим человеком, — как и мой. И я знаю, что ты приняла Единого всем сердцем, — как и я.
Прошу тебя, Аиша, прими моих детей, как своих, — я знаю, именно это завещал Мухаммад. Византия уже не помнит ни о словах пророков, ни даже о Боге.
Твоя сестра Мартина».
Императрица свернул папирус в трубочку и протянула письмо старшему из эфиопов.
— Береги моих детей, Захария.
Тот наклонил голову.
Она поцеловала Ираклонаса, упала на колени, обхватила и прижала к себе меньших, Давида-Тиберия и Маринуса, и заплакала. Она бы не рассталась с ними ни за что, но во всей забывшей Бога Ойкумене оставалось только одно место, где ее царственных, слишком царственных сыновей не ждала кастрация, — родина яростного и бескомпромиссного пророка Мухаммада.
* * *
Елена поняла, что ее убьют, сразу, как только заглянула в глаза Мартина, но кастрат Кифа не решался на это долго, очень долго. Сначала он зачем-то повел ее на окраину города, но на полпути повернул, снял для нее и охраны комнату в маленькой гостинице, а сам исчез на несколько часов. Затем он снова вывел ее в город, и снова вернул в гостиницу. Кифа то ли обдумывал, какую бы пользу из нее напоследок извлечь, то ли решал, как именно будет ее убивать, то ли просто боялся пролития крови всеобщей праматери.
«Симон… — мысленно просила она, — где ты? Приди же скорее!»
Но Симона все не было и, в конце концов, когда весь Кархедон окончательно наполнился пьяными, грабящими богатых горожан итальянскими наемниками, Кифа принял какое-то решение.
— Идем, — схватил он ее за руку и вывел в самый центр небольшой площади с глиняным баком на небольшом квадратном возвышении. — Сиди здесь.
Она покорно присела возле бака и, стараясь не касаться спиной почему-то испачканной известью керамической стенки, замерла. Ей было страшно, очень страшно. Все это место буквально воняло смертью. А Кифа тем временем подошел к вывалившейся из харчевни группе солдат и ткнул в ее сторону пальцем.