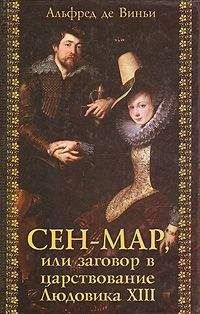Эх, эх, эх, jaleo. Девушки, девушки, кто купит у меня черной шерсти?»
В оконце сверкнула молния, каморка наполнилась запахом серы; и тотчас же раздался оглушительный грохот; хижина заходила ходуном, и одна из балок выпала наружу.
— Ой, ой, мой дом! — закричал пьяница. — Сам черт пожаловал к нам! Куда же запропастились наши друзья?
— Споем, — сказал Жак, придвигая к Умэну седло, на котором сидел.
Тот выпил стаканчик для бодрости и продолжал
Jaleo, jaleo! Мой конь устал, и я бегу рядом.
Ай, ай, ай, приближается дозор, и в горах идет перестрелка.
Ай, ай, ай, лошадка, вызволь меня из беды.
Живей, живей, лошадка с белой отметиной на лбу!
Девушки, девушки, купите у меня черной шерсти.
Не успел он закончить песни, как сиденье под ним закачалось, и он упал навзничь; избавившись таким образом от собутыльника, Жак бросился к двери, но она тут же распахнулась, и он столкнулся лицом лицу с бледной, как смерть, девушкой. Он попятился.
— Судья! — сказала она и рухнула на ледяной пол.
Жак занес было ногу, чтобы перешагнуть через нее, когда в дверях показалось другое бескровное, изумленное лицо и возникла фигура высокого человека в плаще, с которого ручейками стекал тающий снег. Жак в ужасе попятился и отчаянно захохотал. То был Лобардемон, в сопровождении стражи; они впились глазами друг в друга.
— Ээ, прия… тель! — проговорил Умэн, с трудом вставая. — Уж не роялист ли ты ненароком?
Но, заметив, что судья и капитан словно окаменели, он тоже умолк, так как понял, что пьян, и, шатаясь, подошел к безумной девушке, которая по-прежнему лежала между Жаком и вновь прибывшим. Судья заговорил первый:
— Уж не за вами ли мы гонимся?
Это он, — сказали хором сопровождавшие его люди, — другой убежал.
Жак отступил к шаткой стене хижины. Он плотнее закутался в плащ и, похожий на медведя, загнанного собачьей сворой, сказал мрачно и громко, чтобы отвлечь внимание преследователей и выгадать время:
— Я убью первого, кто переступит через тело этой женщины и подойдет к жаровне!
И он вытащил из-под плаща длинный кинжал. Между тем Умэн опустился на колени возле девушки и повернул ее голову; глаза были закрыты; в эту минуту на нее упал свет жаровни.
— Великий боже! — вскрикнул Лобардемон, в страхе выдавая себя, — Жанна, опять она!
— Будьте покойны, ва… ваша ми… лость, — пробормотал Умэн, тщетно пытаясь приоткрыть веки девушки и поднять голову, бессильно клонившуюся вниз, — будь… те покойны; не гне… вайтесь, она мертва, совсем мертва.
Жак поставил ногу на труп, словно это был барьер, и, свирепо наклонившись к Лобардемону, сказал вполголоса:
— Пропусти — или я осрамлю тебя, холуй, скажу, что она твоя племянница, а я — твой сын.
Лобардемон задумался взглянул на своих людей, которые теснились вокруг с ружьями наперевес, и, сделав им знак отойти, ответил очень тихо:
— Отдай мне договор и пройдешь.
— Он здесь, у меня за поясом; посмей только протянуть руку, и я громко назову тебя отцом. Что скажет твой хозяин?
— Дай сюда договор, и я прощу тебе, что ты родился.
— Пропусти меня, и я прощу тебе, что ты меня родил.
— Ты все тот же, разбойник?
— Да, убийца!
— Какое тебе дело до мальчишки-заговорщика? — спросил судья.
— Какое тебе дело до царствующего старика? — возразил капитан.
— Дай мне бумагу, я поклялся, что добуду ее.
— Оставь мне бумагу, я дал клятву, что пронесу ее.
— Чего стоит твоя клятва и твой бог? — продолжал Лобардемон.
— А ты чему поклоняешься? — спросил Жак. — Не раскаленному ли докрасна распятию?
Но тут, хохоча и пошатываясь, между ними встал Умэн.
Уж больно вы долго объясняетесь, при… ятель! — сказал он, хлопнув судью по плечу. — Вы с ним знакомы? Он… славный малый.
— Знаком? Нет! — вскричал Лобардемон. — В жизни его не видал.
В эту минуту Жак, воспользовавшись, как прикрытием, фигурой Умэна и теснотой каморки, изо всех сил уперся о тонкую дощатую стену, ударом каблука вышиб две доски и выскочил наружу в образовавшуюся пробоину. Хижина дрогнула до самого основания, ветер вихрем ворвался внутрь.
— Эй, эй, черт бы тебя побрал! Куда ты? — закричал контрабандист. — Ты сломал мою хижину, да еще со стороны потока.
Все осторожно приблизились к стене, оторвали оставшиеся доски и нагнулись над бездной. Диковинная картина представилась их глазам: гроза достигла полной силы, и это была гроза в Пиренеях; гигантские молнии вспыхивали повсюду, сменяя друг друга с такой быстротой, что казались неподвижными, как бы застывшими; сверкающий небосвод порой неожиданно гас, затем вновь загорался ослепительным светом. Не пламя было чуждо этой ночи, а темнота. И мнилось, что в извечно сияющем небе наступают мгновенные затмения: столь продолжительны были молнии и столь коротки промежутки между ними. Остроконечные вершины и заснеженные утесы выступали мраморными глыбами на этом красном фоне, похожем на раскаленный медный купол, являя зрелище извержения вулкана среди зимы; водные струи уподоблялись огненным фонтанам, а снега сползали вниз, точно ослепительно белая лава.
Среди этих пришедших в движение громад барахтался человек и с каждой минутой все глубже уходил в клокочущий водоворот; его ноги уже погрузились до колен; он тщетно цеплялся за огромную пирамидальную льдину, сверкающую, как кристалл при свете молний; льдина эта подтаивала у основания и медленно скользила по склону. Под снежным покровом слышался грохот гранитных глыб, которые, сталкиваясь, падали в бездонную пропасть. Однако человека еще можно было спасти: от Лобардемона его отделяло расстояние не более четырех футов.
— Помоги! Я гибну! — крикнул он. — Протяни мне что-нибудь и получишь договор.
— Дай мне его, и я протяну тебе мушкет, — сказал судья.
— Бери, раз сам дьявол за Ришелье! — ответил капитан.
И, отпустив одной рукой шаткую опору, он бросил в хижину деревянный футляр. Лобардемон тут же повернулся к нему спиной и набросился на договор, как волк, который кидается на добычу. Жак тщетно протягивал руку; видно было, что он медленно скользит вниз и бесшумно погружается в снежную бездну вместе с огромной тающей льдиной, которая наваливается на него своей тяжестью.
— Негодяй, ты обманул меня! — крикнул он. — Но не ты взял у меня договор… я сам отдал его… слышишь… отец!
Он исчез под толстым слоем снега; видна была лишь ослепительно белая пелена, пронизанная затухающими молниями; до слуха доносились только раскаты грома и рев воды, бьющейся о скалы, ибо люди, которые толпились в полуразрушенной хижине. возле трупа и злодея отца, молчали, застыв от ужаса и опасаясь, как бы бог не испепелил их в гневе своем.