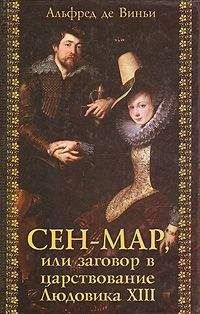— К герцогине де Роган, — ответил поляк.
Вкрадчивый Мазарини, пользовавшийся любым случаем, чтобы проникнуть в чужие тайны и оказаться полезным, благодаря вырванным признаниям, подошел к королеве.
— Как кстати мы заговорили о польской короне, — сказал он.
Мария не вынесла этого намека и сказала находившейся поблизости г-же де Гемене:
— Разве господин де Шабо польский король?
Королева услышала слова Марии и обрадовалась ее невольному порыву досады. Желая подзадорить свою любимицу, она одобрительно отнеслась к последующему разговору и сделала вид, что поощряет его.
— Нелепее брака быть не может! — воскликнула принцесса де Гемене. — А ведь нет возможности отговорить ее. Неужели мадемуазель де Роган, гордячка, которая отказала графу Суассонскому, герцогу Веймарскому и герцогу Немурскому, станет женой простого дворянина! Какая жалость, право! Куда мы идем? Страшно подумать.
Мазарини спросил, на что-то намекая:
— Как! Неужели это правда? Любовь при дворе? Настоящая глубокая любовь? Кто этому поверит?
Между тем королева, как бы играя, открывала и закрывала ларец, в котором лежала новая корона.
— Бриллианты идут только к черным волосам, — молвила она. — Ну же, Мария, дайте вашу головку… — И добавила: — Корона вам удивительно к лицу.
— Можно подумать, что она заказана для принцессы, — подтвердил Мазарини.
— Я готов отдать капля по капле всю свою кровь, лишь бы она осталась на этой головке, — сказал польский воевода.
Мария по-детски улыбнулась сквозь слезы, которые еще блестели у нее на глазах, и эта улыбка была подобно солнцу, проглянувшему после дождя; но она тут же сильно покраснела и выбежала из комнаты.
Послышался смех. Королева проводила ее глазами, улыбнулась, протянула польскому послу руку для поцелуя и удалилась, чтобы написать письмо.
Не на что надеяться в мире сем бедному, мелкому люду, поелику величайший король столь много скорбел и столь много трудился.
Филипп де КоминОднажды вечером под Перпиньяном произошло нечто неожиданное. Было десять часов, и все спало. Осаждавшие действовали вяло, атаки почти приостановились, лагерь и город пребывали в оцепенении. Испанцы обращали мало внимания на французов, ибо пути сообщения с Каталонией были свободны, как в мирное время, во французской же армии всех снедала тайная тревога — предвестница важных событий. Однако с виду все было спокойно; слышались лишь мерные шаги часовых, и в ночном мраке поблескивали красные огоньки их дымящихся ружейных фитилей. Вдруг зазвучали трубные сигналы мушкетеров, легкоконных отрядов и отрядов тяжело вооруженных всадников, и почти одновременно раздалась команда «на коня!». Караульные закричали «к оружию!» — и сержанты с зажженным факелом в одной руке и с пикой в другой стали обходить палатки, чтобы разбудить солдат, построить их и пересчитать. Длинными вереницами потянулись люди; в суровом молчании проходили они по лагерю и занимали предназначенное им место в строю; слышался стук их тяжелых сапог, а цоканье копыт говорило о том, что и кавалерия производит тот же маневр. По прошествии получаса шум утих, факелы погасли и снова наступила тишина; но войска находились теперь в боевой готовности.
Одна из крайних палаток лагеря, освещенная изнутри огнем факелов, блестела в темноте, как звезда; вблизи можно было хорошо рассмотреть эту прозрачную белую пирамиду; на ее холщовых стенках четко вырисовывались силуэты двух людей, ходивших взад и вперед. Снаружи ожидали несколько всадников на конях; в палатке находились де Ту и Сен-Мар.
Видя, что благочестивый и рассудительный де Ту встал спозаранку и уже успел вооружиться, всякий принял бы его за одного из руководителей заговора. Но достаточно было вглядеться в его строгую осанку и мрачное выражение глаз, чтобы рассудить иначе: порицая заговор, де Ту все же принимал в нем участие и сознательно губил себя под влиянием какого-то чрезвычайного решения, которое помогло ему превозмочь ужас, внушаемый этим предприятием. С тех пор как Анри Д'Эффиа открыл ему сердце и поведал свою сокровенную тайну, он убедился, что предостережения бесполезны, — столь непоколебима была решимость друга. Он понял даже больше того, что сказал ему Сен-Мар, ибо увидел в его тайной помолвке с принцессой Марией те любовные узы, которые нередко влекут за собой загадочные ошибки, невольные страстные порывы, требующие для своего, очищения немедленного благословения церкви. Он понял непереносимую муку любовника, обожаемого повелителя юной Марии, который осужден ежедневно являться перед ней, как чужой, и выслушивать разговоры о подготовляемых для нее брачных союзах. В тот день, когда Сен-Мар чистосердечно открылся ему, советник пустил в ход все свое красноречие, чтобы помешать обер-шталмейстеру заключить договор с чужеземцами. Он взывал к священным воспоминаниям, к лучшим чувствам друга — все было напрасно: тот еще больше замыкался в своем неодолимом упорстве. Как помнит читатель, Сен-Мар резко возразил ему: «Но разве я вас просил принимать участие в заговоре?», а де Ту, пообещав не выдавать его, собрал все свои силы и сказал вопреки голосу сердца: «Не ждите от меня ничего более, сударь, если вы подпишете этот договор». Сен-Мар подписал договор, и, однако, де Ту все еще был подле него.
Привычка обсуждать замыслы друга, быть может, несколько сгладила то, что в них было дурного; презрение к порокам кардинала-герцога, негодование против подкупности правосудия и порабощения парламентов, с которыми была издавна связана его семья, громкие имена и, главное, благородство руководителей заговора — все это смягчило первое тягостное впечатление. Обещав Сен-Мару не выдавать тайны, де Ту считал себя вправе выслушивать признания друга, а после случая у Марион Делорм, скомпрометировавшего его самого как сообщника заговорщиков, он полагал, что связан с ними узами чести и обязан хранить нерушимое молчание. С тех пор он не раз встречался с Гастоном Орлеанским, с герцогом Буйонским и Фонтраем; они привыкли безбоязненно разговаривать при нем, он привык слушать их без возмущения. А ныне опасность, которой подвергался его друг, неодолимо влекла его в тот же водоворот. Он терзался угрызениями совести, но повсюду следовал за Сен-Маром и от избытка щепетильности не решался сделать ни одного замечания, которое могло бы навести на мысль, что он боится за себя. Он бесповоротно пожертвовал своей жизнью, и малейший намек на то, чтобы потребовать ее обратно, казался ему недостойным их обоих.