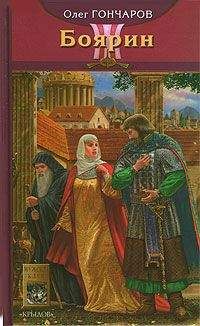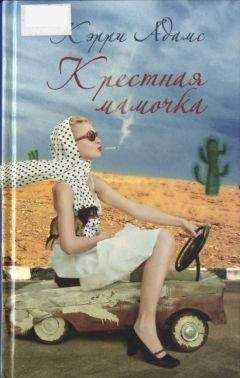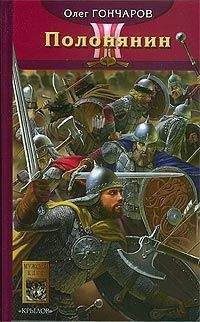– Феофано, – ее позовешь. – Иди сюда, Феофано.
Она нос из норки высунет, усами пошевелит и бежит ко мне, а я ей за это корочку хлебную или каши отсыплю. Она на задние лапки сядет, в передние угощение возьмет и грызет, только носик-пуговка у нее подрагивает.
А время, когда в застенке сидишь, тянется долго. Кажется, что уже день прошел, а посмотришь на свет от малюсенького, под самым потолком, оконца – нет, до вечера еще ой как далеко.
Я уже и тавлеи себе смастерил, камешков черных и белых набрал, прямо на земле поле расчертил, но с самим собой играть неинтересно, все одно проигрываешь. И приемы боя кулачного по несколько раз повторял. И вместо меча себе тростинку из лежака выдернул, а дни все плетутся путником уставшим, и нет им конца.
В Исландии, в холопстве киевском, даже в зиндане булгарском проще было. Там мне за выживание бороться приходилось, а здесь… снедь, вода, и не угрожает никто, и лишь тоска смертная да мысли тяжелые, а от этого хуже всего. От себя же не спрячешься.
Тогда я жизнь свою в памяти перебирать начал. События, лица, победы и поражения, радость и печаль, словно бусины на нитку, нанизывать стал. А еще я отца понял. Каково же ему было целых одиннадцать лет лишь прошлым жить? Не знать, что за стенами узилища делается. Только одной мыслью себя согревать – мечтой о воле и мести за заточение свое.
Ох, отец…
Уже по ночам подмораживать стало, когда ко мне впервые кто-то, кроме Душегуба, заглянул. Пригляделся к вошедшему – Претич пожаловал.
– Фу-у-у! – скривился он. – Ну и вонища. Ты тут живой, Добрыня?
– Жив, как видишь, – отозвался я и испугался собственного голоса.
Отвык я от него, и теперь он мне чужим показался.
– Ты только близко ко мне не подходи, – говорю. – Завшивел я совсем. Какой уж месяц не мылся. Исподнее истлело, и чешусь до крови.
– Ну, это дело поправимое. Пошли-ка за мной. Сейчас мы тебя в бане попарим да в людское обличье возвернем.
– А Ольга тебя не заругает?
– Небось, обойдется, если ты, конечно, меня не выдашь, – сказал Претич.
– А Душегуб?
– Пусть только попробует языком лавяжить. Я ему все кости переломаю. Так ведь, лиходей? – оглянулся он.
– Не изволь беспокоиться, боярин, – из темноты коридора послышался голос ката. – Что ж я, не понимаю совсем?
– То-то же, – сказал Претич. – Пойдем, Нискинич.
И я пошел за ним следом.
Из подклетей выбрался, воздух морозный вдохнул. Вкусный он, воздух-то. А на небе звезды в кулак и Млечный Путь от окоема до окоема. Сжалось все внутри, слезами на глаза проступило, расплылись звезды, с небосвода стекли.
– Хорошо-то как, Боженька! Какой месяц-то на дворе?
– Листопад[97] на исходе. Уж первый снег ложился, да стаял. Ты только тихо, – Претич мне. – Как бы кто чужой нас не заметил. Пойдем скорей.
Прикусил я язык и за сотником поспешил.
– А с Любавой что, с Малушей? – не стерпел я, по дороге к сотнику пристал.
– Жена твоя кланяться тебе велела. Она на подворье своем тебя из полона дожидается. Не спит небось. Знает, что я ныне с тобой свидеться должен. А сестра за запорами в тереме сидит. Ее Ольга жалеет, дурного ничего делать не собирается.
– Куда уж дурней, – говорю. – Разве что голову на плаху положить.
– Ты на княгиню не серчай, – вступился за свою хозяйку Претич. – Не она первая начала. Понимать должен, что все не так просто, как из подпола представляется. Вот в баньке попаришься да в себя придешь, тогда и поговорим.
Баня мне Ирием Небесным показалась. Еще бы чуток, так я бы вместе с грязью и кожу бы с себя стер. Потом патлы, отросшие, себе обкорнал да бородищу остриг.
– Ну, – усмехнулся Претич, – говорил же я, что на человека похож станешь. Теперь давай от гнид избавляться.
Гребнем частым он вшей повычесал, чистотелом меня ополоснул да исподнее свежее дал:
– Это жена тебе велела передать. Сейчас одежу чистую наденешь, и хоть сызнова тебя жени.
– Мне и одной женитьбы достаточно.
– Как знаешь. И вот еще, – протянул он мне что-то, в холст чистый завернутое, – здесь харч от жены с поклоном и словом ласковым.
Принял я гостинец, тряпицу развернул, а под ней пироги сладкие да береста.
«Любый мой, – писала Любава. – Ты крепись в полоне своем. У меня все ладно. Скучаю по тебе сильно, так это не на веки вечные. А на Ольгу ты не серчай, в ней порой княжеское человечье душит, и это тоже понять нужно. Малушу она не обижает, и на том спасибо. Так что за сестру не волнуйся. Жду. Жена».
– Ждет… – Спрятал я бересту за пазуху, чтоб потом еще раз перечитать, и за пирог принялся. – Что стоишь? – Претичу говорю. – Давай подхватывай, – и пирог ему дал. – Мне все равно столько не одолеть.
– Не откажусь, – кивнул тот.
Поснедали мы чуток, тогда я и спросил:
– Так что же все-таки в мире деется?
– И не спрашивай, – махнул он рукой. – Учудил твой батюшка, смуту великую затеял. Почитай, все земли русские переполошил. С дружком твоим, с Путятой, из Овруча посадника нашего прогнали. А глядя на них, и другие роды возмущаться стали. Соловей вятичей ополчил, тиунов княжеских так отметелил, что они чуть живыми до Чернигова добрались. Ольге передать велел, что руги Киеву больше давать не будет. Хазары, дескать, его под свою опеку подряжают и дань с народа меньшую брать будут. За ними кривичи с радимичами потянулись, тоже на сторону коситься стали. Лишь северяне со словенами бунтовать не захотели. И то из Нова-города отцу твоему мечей да прочего оружия целый обоз выслали. Какой-то Ивиц-коваль десять лет запасы делал, в чем самолично признался, когда его посадник новгородский прилюдно на дыбу поднял.
– Из древлян он. – В сердце моем словно тетива оборвалась. – Мы с Ивицем в Коростене вместе в послухах ходили.
– Тогда понятно, ради чего он на смерть пошел, – сказал Претич.
– Прими, Даждьбоже, душу правнука своего, – вздохнул я.
– Свенельд-то из Чернигова на Овруч две сотни ратников послал, чтобы порядок навести, так Малу на выручку ятвиги пришли, да еще огнищане древлянские сохи побросали, косами да топорами вооружились, вот отцу твоему и дружина. Два десятка наемников, словно снопы с житом, положили, остальных отмолотили да в полон взяли. Так что родина твоя, считай, снова из Руси вышла. Ольга со Святославом не знают, в какую сторону наперво броситься. Куда войско слать, а где и потерпеть может? В суматохе этой про тебя и забыли небось.
– Не из тех людей княгиня, кто про такое забыть может. Непонятно только, почему она до сих пор нас с Малушей заложниками не объявила? Велела бы нам кости переломать, так, глядишь, и отец бы посговорчивей стал.
– Ну, это мне неведомо, – усмехнулся Претич. – Ты скажи спасибо, что она и вправду к вам со снисхождением. Может быть, у нее свои мысли по вашему поводу имеются, а может, вера ее христианская такое сотворить не позволяет. Тут же еще по лету из Царь-города послы приперлись. Попов с собой привезли да про договор напомнили. Стали войско просить, чтоб василису в Болгарии воевать помогли. Попов княгиня приняла, а послов куда подале послала. Говорит: Константин дочь свою за Святослава не отдал, так он на болгарыне женился, а против тестя зятю выступать не след. Вот ежели сам василис ко мне в Киев приедет да постоит в Почайне, как я у него в Суде стояла, тогда еще поглядим*.