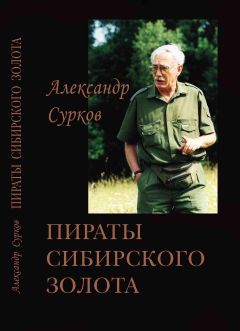— Отнекиваться не стану, было! — нехотя сознался он, потом проговорил торопливо и сбивчиво: — Только вы и то поймите — купцу не пристало рассказывать про свои дела. Ну, есть у меня в городе... хлеб. Есть. Вот этот, в монастыре который.
— Сколько там всего вашего хлеба?
— Да так пудов... тысяч с двадцать.
— До возвращения атамана берегли?
— Зачем? — возразил Стрюков. — Торговые дела. Думал, цены могут подняться. Прикажете, велю открыть торговлю. В любой момент.
— Да нет уж, спасибо, — с иронией улыбнулся Кобзин. — Сейчас мы сами как-нибудь распорядимся.
— Или забрать хотите?
— Конфискуем... Нет! — возмущенно сказал Кобзин, обращаясь к Наде. — Хватило же совести скрывать, когда кругом стон стоит!
— Не я этот голод устроил, — буркнул Стрюков.
— А кто же? Кто? — набросился на него Кобзин. — И вы и такие, как вы. Я уверен, что хлеб припрятан и у других купцов. В общем довольно разговоров, — решительно встал он. — Даем вам двадцать четыре часа. Поговорите с кем надо. Если за сутки не укажут, где еще спрятано продовольствие, завтра утром вы будете расстреляны на городской площади как враг революции.
Эти слова, произнесенные жестко и непримиримо, прозвучали для Стрюкова как приговор.
— Так при чем же я? — взмолился Стрюков. — Каждый за себя отвечает.
— А при том при самом. И скажите своим дружкам: если будут саботировать, всех переберем! Ясно?
— Воля ваша, товарищ комиссар, только я не могу отвечать за других, поймите это.
— А вы понимали, когда к вам обращались по-человечески? Идите, не теряйте времени зря.
Стрюков, сгорбившись, вышел.
Глава вторая
— Неужто расстреляете? — спросила Надя, когда за купцом закрылась дверь.
— Без всякой жалости! Такие, как он, заслуживают самого жесткого наказания. Я не могу избавиться от мысли — сколько людей осталось бы в живых, если бы Стрюков и ему подобные не скрыли хлеб? Э, да что говорить!.. А ты растерялась? Смутилась?
— Нет, я просто спросила.
— Очень хорошо, — добрея, улыбнулся Кобзин. — Значит, вопросов больше нет?
— Нет.
— Тогда продолжим наш разговор. Как я понял, в тех краях ты никогда не бывала. А мне доводилось. Дорога очень трудная, в особенности сейчас. До станции Айдырля придется ехать поездом, а поезда нынче — одно наказание: в вагонах холодина, паровозы простаивают, топить нечем... Но и это не самое главное. Трудность и, скажу прямо, опасность в том, что по пути почти всюду беляки. Наши только в Заорье да на золотых приисках. Путь очень опасный. Я не к тому говорю, чтобы напугать тебя и отговорить от поездки, я хочу, чтоб ты знала, какие неожиданности могут тебе встретиться в пути. Конечно, возможно, все сойдет благополучно. И я уверен, так оно и будет, но все же надо быть готовым к худшему. Самое страшное — это, конечно, беляки. Они просто зверствуют. Да ты сама знаешь, как они обошлись с нашим продотрядом.
— А если ехать не поездом?
— Или пешком хочешь двинуться?
— Где как. Где пешком, а где с попутчиками. Ездят же люди из станицы в станицу?
— Да, конечно... Что касается передвижения пешком, сейчас об этом надо оставить и думать. Зима! Степи без конца и края. От станицы до станицы больше полусотни верст. Прихватит в степи ветер, завьюжит — и конец. Нет, пеший поход отложить. На лошадях и то люди сбиваются с дороги. И опять же, встречи с беляками не избежать, они засели почти в каждой станице, в каждом поселке... Нет, если решила ехать, то двигай поездом.
— А вы мне какой-нибудь документ дадите?
— Значит, едешь?
— Поеду, Петр Алексеевич.
— Ну, что ж, удачи тебе!.. А насчет документа я вот что скажу: у тебя есть какое-нибудь старое удостоверение или справка? Это не для наших, а на тот случай, если придется столкнуться с беляками, чтоб глаза им замазать.
— Что-то осталось. Старый гимназический билет.
— Ну и замечательно! Будешь выглядеть как представительница привилегированного класса, — пошутил Кобзин. — Конечно, справка справкой, но они, кроме всего прочего, могут еще и допрашивать. В таком случае я тебе советую вот что: не придумывай никакой истории, говори, что есть.
— Как? — удивилась Надя. — И об отряде?!
— Вот, вот, — рассмеялся Кобзин. — Только этого и не хватало. Ты говори им о том, что жила у Стрюкова, что жить больше негде, расскажи, куда ты идешь. Если получится, слезу подпусти.
— А что? Так можно... О себе хоть десять раз рассказывай, не собьешься.
— Что же касается встречи с нашими, то тут будет иной разговор.
В дверь несмело постучали, и в комнату вошел Иван Никитич. Это был уже не тот Стрюков, который не скрывал самоуверенности и насмешливо поглядывал на окружающих. Сейчас он был во власти страха, и хотя старался скрыть свое состояние, это ему мало удавалось. Прежде всего выдавали глаза: они шныряли по комнате и убегали от глаз Кобзина.
— Я на два слова. Можно?
— Можно и больше, — сказал Кобзин. — Только на пользу.
— Само собой... Я насчет своего хлеба.
— Какого еще своего?
— Ну... значит, не то чтоб своего, а того самого, монастырского, который в монастыре, — сбиваясь, залепетал Стрюков. — Уж коли так случилось, то, видно, так тому быть: словом, я жертвую тот хлеб на революцию. Конечно, вы его забираете сами, я это понимаю, но я в общем как хозяин бывший — не против. Жертвую специально на голодающих. Чтоб на вас не возводили поклепа. Дарю, и все!
— Эх, раньше бы вот так! — с сожалением сказал Кобзин. — А сейчас ваша доброжелательность никакой роли не играет. Что касается разной болтовни — мы ее не боимся.
— Петр Алексеевич, товарищ комиссар, я же не все сказал, — заторопился Стрюков. — Вот вы мне расстрелом грозитесь, а я, видит бог, ничего не могу и не знаю насчет дел других купцов. Я, конечно, понимаю: нельзя было так. Ну не волк же я, в самом деле. Люди-то голодают...
— Нельзя ли покороче? — прервал его Кобзин. — Чего вы, собственно, хотите?
— Снимите с меня обязанности насчет купцов, а я, под честное слово, помогу вам, чем смогу. Так сказать, совершенно добровольно и без всякого принуждения.
— Вот это деловой разговор, — сказал Кобзин. — Так что вы предлагаете?
— У меня есть табуны скота, в степя их угнали, к киргизским баям. Все отдаю! Жертвую! Для голодного люда.
Чего-чего, а такой щедрости Кобзин не ожидал. Что случилось? Конечно, Стрюков не подобрел и не изменил своего отношения к ревкому. Тут что-то другое. Что же именно? Купец не глуп, раскрыть его замыслы не просто. А надо...
— С чего же это вы вдруг так подобрели? — в упор спросил Кобзин. — Не воображайте, что от радости я пущусь перед вами плясать вприсядку. Давайте в открытую. Чего вы от нас хотите за свой, скажем, благородный поступок? Говорите прямо, не бойтесь.