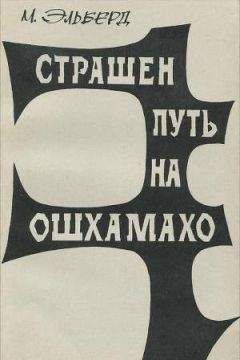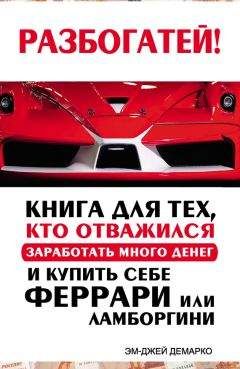Вся земля — и там, где к ней прикладывались руки пахари, и там, где она сама взрастила дикие травы и пущи лесные, — выглядит так, как будто осознает, что у нее есть совесть и есть сердце, похожие на человеческие, и сейчас ее совесть кристально чиста, а на сердце — мир и покой…
Кургоко и Кубати Хатажуковы вдвоем, без провожатых, медленно ехали мимо длинного, вытянувшегося между берегом реки и лесистым склоном, просяного поля, на котором заканчивалась уборка щедрого в этом году урожая.
Тлхукотли и пшикеу — последние были вольноотпущенными княжескими крестьянами и арендаторами княжеской земли — работали не каждый в отдельности на собственной ниве, а сообща: сначала на тех наделах, где зерно созрело раньше, затем переходили туда, где колосья еще могли подождать. Одни трудились на жатве, другие возили воду, еду, дрова, третьи готовили пищу для всех.
На краю поля стоял вместительный балаган из свежеобмолоченной соломы. В нем хозяйничала «гуаша просяного шалаша». Сегодня, в последний день жатвы, предстояло веселое крестьянское пиршество с песнями, танцами, соперничеством в удальстве и благодарственным восхвалением богов. Больше всего будут славить Тхагаледжа — бога земледелия (и пусть этот новый аллах не обижается). А пока «просяная гуаша» — женщина, которой посчастливилось быть избранной на столь почетный пост — начинала печь на необъятной общинной сковороде общинный «кыржынище» величиной с тележное колесо. Дело это — испечь первый хлеб из муки нового урожая — святое дело, и по кусочку от «кыржынища» достанется каждому.
Люди работали с такой веселой увлеченностью, словно заняты были не важным делом, требующим старания и аккуратности, а играли в азартную игру.
Уж насколько хорошо знал людей Кургоко, и то озадаченно покачивал головой: удивительный народ эти кабардинцы! Ведь они прекрасно знают, что со дня на день ожидается разбойничье нашествие из Крыма. Знают, что скоро грянет гром, и придется каждому бросать свои закрома, а жен, детей, немудреный скарб, скотину укрывать в труднодоступных горах. А сейчас они вполне довольны, рады, что вечером повеселятся от души.
Кургоко обернулся, скользнув взглядом по Кубати, — тот ехал чуть позади, по левую руку. Хорош парень! И сила, и мужество, и ум, и воспитание… А как он показал себя на игрищах! Ни один старик не мог вспомнить джигита, равного этому юнцу. Единственно, что смущает Кургоко, — это некоторая замкнутость Кубати: что-то в нем есть непонятное, чужое…
* * *
Кубати в это время размышлял примерно о том же самом. Он так же, со своей стороны, чувствовал исходящий от отца холодок отчужденности. На людях Кургоко держался немножко проще: мог и улыбнуться, и пошутить, а стоило только им остаться вдвоем, как во время сегодняшней конной прогулки, князь погружается в раздумья, будто в чащу колючего кустарника, и от него даже слова было трудно дождаться. Посмотрит изредка — глаза хоть и строгие, но добрые — вот и все. Не может ведь Кубати сам начинать разговор…
Вспомнились недавние игрища: вот, кстати, и дерево, с которого он тогда вторым сорвал ветку, но первым ее доставил по назначению. А опередил всех на пути к раскидистому дубу тот парень, который здорово стрелял из лука. Кубати обошел его уже перед самой поляной. Остальные всадники сильно отстали…
Хороший парень. Кажется, Тутук его имя. Он потом ловко вознаградил себя за то, что пришлось уступить первенство: достал снова лук и, тщательно прицелившись, перерезал стрелой ремешок, на котором прикреплены были к столбу шапка и тляхстены, висевшие до сих пор в целости и сохранности. Поощряемый восторженным хохотом толпы, Тутук, не слезая с коня, подхватил с земли ценную добычу и ускакал в сторону своего дома. Скоро он вернулся — уже в обновках — и пошел туда, где звучала музыка, наигрывая завлекательные мелодии кафы или уджа. Девушки теперь бросали на него смущенные взоры и каждая мечтала, чтобы Тутук танцевал только с ней.
К почетным столикам, за которыми восседали князь Кургоко, Канболет и старейшины, глашатай подозвал молодого Хатажукова и других участников состязания. Самые старые из присутствующих — Инал Быков и тлекотлеш с редким именем Карабин-Кара — торжественно объявили, что лучший в Кабарде и «во всех окрестных землях до самой Андолы» панцирь завоеван сыном Кургоко и будет принадлежать ему и его потомкам по неотъемлемому и никем не оспариваемому праву. Да станет это известно каждому, в том числе и тому, кто убивает собаку в воде, которую пьет, и грубит жене, с которой живет. Все поняли намек на Алигоко Вшиголового и одобрительно закивали головами, а Канболет вздохнул с радостным облегчением.
Стоявший неподалеку от этого своеобразного мехкема[163] Шот одобрительно крякнул и со спокойной душой вновь запустил руку в огромный котел, где еще плавали куски остывшей говядины. К нему подошел уставший после танцев и скачек и изрядно проголодавшийся Тутук:
«Не ешь в одиночку, ни с кем не делясь,
как это делает ногайский князь!»
— А-а, это ты, мой славный нарт Сосруко! Может, украдешь огонь во-о-он от того костра и мы здесь зажжем свой? Мясо разогреем.
— Ох, мой воробышек! Неужели еще не наклевался?
— Я тебе вот что отвечу. Правильно говорят: печаль желудка скоро забудешь — не скоро сердца печаль. От себя добавлю, что и радость желудка тоже не бывает долговременной.
— Подожди-ка! — насторожился Тутук. — Что там происходит?
Люди, посланные в княжеский хачеш за панцирем, подняли отчаянную суматоху. Кто-то завопил:
— Панцирь пропа-а-ал!!
Множество народу, толкаясь и спотыкаясь, бросились к дому.
— Украли! Украли-и!
Не тронулись с места только Канболет, Карабин-Кара и оба Хатажуковы.
Канболет был огорчен, Кубати, хотя не подавал виду, рассержен, Кургоко оскорблен, а старик Карабин-Кара до чрезвычайности заинтересован и оживлен не по возрасту:
— Главное, — веско, но, правда, излишне торопливо, изрекал он, — надо выяснить, дело ли это рук человеческих или, напротив, сил сверхъестественных. В первом случае следует бросить волчью жилу в огонь, и тогда рука у вора скрючится. Вопрос только в том, что вор, может быть, не на виду у нас, а уже далеко отсюда. И еще: где взять волчью жилу? Вот идет старая колдунья Хадыжа. Может, у нее как раз имеется эта…
— Ох, Кара, — усмехнулась старуха. — Поищи колдунью у себя дома, на женской половине. Век бы твои умные речи слушала, да боюсь, уши не выдержат.
Простодушный патриарх не понял шутки:
— Если болят уши, три утра подряд, натощак, плюнь через порог, вставив большой палец между зубами…