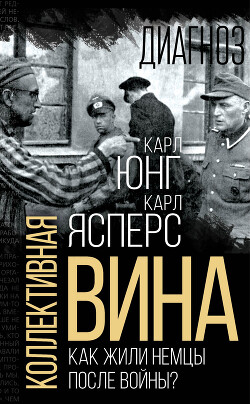такого человека – Макс Вебер был монархист, – это прямо-таки первоклассный политический фокус. Ведь в мире нас презирают, и что хуже всего – по праву. Если вспомнить, что мы не разделались неприемлемыми для мира, а через несколько лет – удивительное дело после такой скверной поры полного к нам презрения! – стали опять, так сказать, приемлемы в мире, то какое-нибудь непонятное для мира событие может с этим положением снова покончить.
С нами будут вежливы, как с негритянскими государствами, но какое отношение будет таиться за этим – о том, господин Аугштейн, вы знаете, наверно, больше, чем я. На этом заседании бундестага произойдет что-то, после чего должно стать ясно, кто мы такие. Понимаете, что я имею в виду?
Аугштейн. Надеюсь, что понимаю. Не стану также защищать от вас министра Бухера. Думаю, что многие его заявления были, мягко говоря, не на высоте проблемы.
С другой стороны, полагаю, что у нас должна быть ясность: бундестаг до такой степени разучился думать в категориях морали, что нельзя упрекать в этом какое-то отдельное лицо, в том числе и федерального министра юстиции.
Если вы допускаете, что кабинет не осмелится дать что-то другое, кроме двусмысленной рекомендации, если вы допускаете, что федеральный канцлер должен будет высказаться по этому вопросу как бы в частном порядке, то вот и ответ на ваши опасения. Они действительно не напрасны.
Произойдет, по-моему, вот что. Мы с грехом пополам продлим срок давности по той единственной причине, что из-за своих неудачных действий мы повсюду потеряли лицо на Ближнем Востоке. Вот в конечном счете причина, по которой будет продлен срок давности.
Но позволю себе прибавить еще кое-что, тоже, на мой взгляд, важное.
Признавая верность и убедительность всего, что вы сказали, надо тем не менее спросить себя: не отнимает ли продление срока давности чего-то у обвиняемого, не ущемляет ли оно в чем-то его права? Я сейчас говорю не о юридической стороне дела. Я не говорю, что тот (о чем тоже можно было бы дискутировать), что тот, стало быть, кто убивал, имеет право на неподсудность по истечении двадцати лет. Сейчас, во всяком случае, не будем, с вашего позволения, дискутировать об этом.
Я говорю о другом, вот о чем: не может ли так быть, что общество, чтобы освободиться от своих преступлений, что общество это выхватывает отдельных людей, лишь в оттенках провинившихся больше других, и отсылает их, выражаясь на древний лад, козлами отпущения в пустыню.
Посмотрите: какой-нибудь статс-секретарь министерства путей сообщения, от которого требовали вагонов, а вагоны эти предназначались для подвоза евреев к газовым камерам – разве этот человек виновнее, чем большинство народа? Нельзя ли его заменить любым?
Он случайно получил задание и случайно, как, вероятно, и всякий другой чиновник, выполнил его, правда, как помощник в этой административной резне, в массовых аппаратных убийствах. В Мюнхене сейчас идет суд над четырнадцатью медицинскими сестрами, их обвиняют в убийстве, потому что они делали пациентам назначенные врачами уколы – по программе эвтаназии; это были смертельные инъекции.
Так вот, я спрашиваю себя: не поступаем ли мы в этом деле несправедливо с кем-то в отдельности, чтобы снять вину с самих себя?
Ясперс. Этот вопрос правомерен. И в принципе-то дать на него общий ответ легко, а именно: каждый может быть обвинен и осужден как индивидуум, а не в силу принадлежности к какой-то организации… Всегда нужно действительно смотреть так: что этот человек совершил? Различие участия в убийствах чрезвычайно велико; как и различие знания.
Хотя сейчас очень многие лгут, чтобы выкрутиться: они, мол, ничего не знали, есть, несомненно, люди, которые по-настоящему не знали, но смутно чувство ваз и: тут происходит что-то ужасное.
Я вспоминаю одну очень старую, восьмидесятилетнюю еврейку из Гейдельберга, подлежавшую депортации и до отправки имевшую в своем распоряжении несколько дней; она покончила с собой. Пришел гестаповец, который приходил каждый день, и, увидев ее мертвой, в неподдельном волнении подошел к окну и сказал: «Мы же этого не знали».
Насчет этого гестаповца я твердо убежден, что он не был в курсе дела, по крайней мере тогда, в 1941 году.
Конечно, каждый чувствовал, что тут что-то неладно, и знал, что речь вдет о жизни и смерти… Я сам узнал о масштабах планомерного уничтожения людей в газовых камерах только после 1945 года.
Аугштейн. Я тоже.
Ясперс. Вы тоже. Конечно, между «знать» и «не знать» есть разница. Конкретно, относительно каждого отдельного лица, это очень трудно установить. Трудно разобраться в каждом отдельном случае.
Но если люди подчинялись государственному аппарату и знали, что происходит, то санкция государства на их поступки не является для них смягчением их вины; ибо это было преступное государство. В понимании этого люди расходятся. От каждого, у кого есть совесть, можно было ждать того минимума совести, который сделает его способным видеть преступление и при такой подчиненности. Конечно, мы, бессильные, хитрили с этими людьми и лгали им и тем, кто служил им, потому что у них была власть, мы опасались их, как диких зверей. Но видеть и признавать в них возможность человечности мы не переставали.
Каждый знал: это преступление. Что само это государство – преступное государство, это должно было открыться ему в тот миг, когда оно отдало ему приказ совершить преступление. И в будущем международное законодательство должно быть таким, чтобы впредь каждый знал: коль скоро я при такой государственности участвую в убийствах и в организации убийств, я могу быть уверен, что если эта государственность не завоюет мир и не уничтожит человечество, то я буду убит.
Ссылки на то, что кто-то действовал по поручению государства, оправданием считать нельзя. Он – пособник и соучастник преступного государства.
Но опять-таки вы правы, когда говорите, что характер пособничества все же различен. Это ведь нельзя привести к одному знаменателю. Я сделал бы первым такое разграничение, сегодня особенно важное: убийцы-садисты, так сказать, погрешили ведь даже против того приказа, который отдал сам Гитлер.
Аугштейн. Это совсем простая проблема.
Ясперс. Да, только вряд ли кого-либо за это наказывали. Однако различить это довольно просто.
Но это лишь малая часть. Все прочее так или иначе подпадает под то, что называется высшей властью или необходимостью подчиняться приказу. Оба эти понятия, по-моему, нельзя признавать оправданиями. «Высшую власть» потому, что государство-то было преступное. «Необходимость подчиняться приказу» потому, что означала эта необходимость, когда речь шла об убийстве, подвергнуть риску свою карьеру, подвергнуть себя риску испытать какие-то неудобства. Могли отправить на фронт… Но