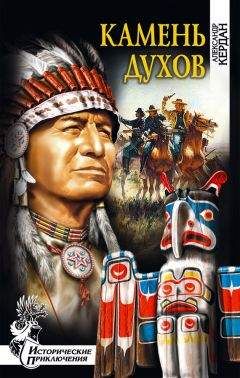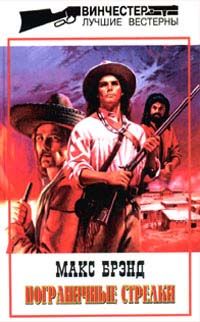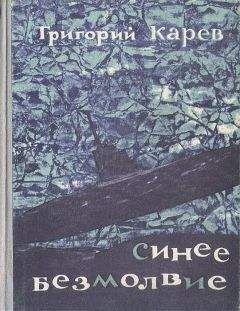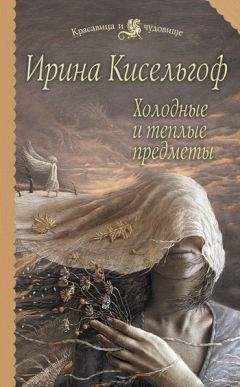Ольга умолкла, тянет время, испытующе поглядывает на брата. А тот весь извертелся, так хочется узнать, чем же дело закончится.
– Ну, Оль, Оль… – жалобно канючит он. Сестра, смилостившись, заканчивает сказку:
– Рассердился тут царь: «Да как ты смеешь мне такое говорить! У моей-де супруги ручки белые по самый локоть отсечены, а у тебя, гляди, целы-целешеньки!» Не выдержала царица, разрыдалась: «Это Боженька пожалел меня, горемычную… Чтоб спасла нашего сыночка от смерти неминучей, вернул мне ручки белые…» Плачет царица, а слезы-то сажу с ее лица всю смыли. Узнал наконец царь свою жену. Стал ее и сына обнимать-целовать. Обо всем рассказала царю царица, а о злой мачехе в первую очередь. Как разгневался-то царь-батюшка: «Отольются мачехе ваши слезы!» Приказал он коней седлать и вместе с женой и сыном во дворец поскакал. А мачеха его возвращения на балконе поджидала. Увидела, что едет царь, а с ним – невестка ее, жива-здорова, бросилась с балкона вниз, оземь ударилась и превратилась в птицу черную. Каркнула и улетела… А царь с царицей и царевичем стали жить дружно и счастливо… Так и должно быть. Добрым людям за добро добром воздается, а зло само себя наказывает…
Да, неспроста вспомнилась Кириллу Тимофеевичу сестра и сказка, расказанная ею. Словно озарило его, понял, что за рубашку нашел он в сундуке у Климовского. Вышита она не кем иным, как Ольгой. Сестра, собирая его на Камчатку, декабрьским утром 1800 года положила в котомку две собственноручно расшитые рубахи. Одну Хлебников износил сам, а другую… Другую подарил другу – Абросиму Плотникову.
«Что же это получается, Господи? Неужто… – Кирилл Тимофеевич даже вздрогнул от предположения, пришедшего на ум. – Неужто Климовский – сын Абросима? Конечно, это еще только догадка… Но все как будто сходится. Давний рассказ Абросима об индианке с огненными волосами… Как же звали ее? Кажется, Айакаханн. По-колошенски это – Подруга Огня. Да-да, верно! Абросим говорил, что, прощаясь с ней, он оставил свою рубаху… Потом – рассказ Андрея о том, как в какой-то рубахе его нашел Баранов у крепости индейцев. И наконец, сама рубаха с его, Хлебникова, знаками… Она – главное свидетельство его правоты. Эх, знать бы наверняка, что мать Андрея – Айакаханн! Тогда бы все стало совсем определенно…»
Кирилл Тимофеевич долго еще дивился нечаянному открытию, сокрушался, что много лет знал Андрея и не догадывался, чей он сын. Хлебников стал вспоминать, как выглядел Абросим, и мысленно сравнивать его с Климовским. «А ведь похож, похож, – радовался он. – И как я раньше-то не замечал?»
Постепенно голова у него отяжелела, веки стали слипаться. Уже засыпая, он подумал: «Надо же, не иссяк плотниковский род… Крест Абросима, попавший ко мне, когда я готов был разувериться и в друге, и в людях вообще, я смогу передать его сыну… Тогда этот крест вернул мне надежду. Теперь она сбылась…»
7
Горизонт притягивает к себе, манит в даль неизведанную, сулит новые открытия, обещает новые встречи… Может быть, и человек живет по-настоящему только до тех пор, пока не угасает в нем притяжение горизонта.
Впервые зов пространства Андрей Климовский ощутил много лет назад, когда подростком плыл из Кадьяка на Ситку на старом компанейском суденышке, носящем имя «Святая Екатерина». Океан расстилался перед ним – от края до края. Он был неспокоен. Громады волн немилосердно раскачивали корабль, ветер жутко гудел в парусах. Но стихия завораживала.
С того путешествия Андрей полюбил океан. Потом он не раз плавал по нему и даже командовал кораблем. Но не зря говорят, что вторая любовь бывает крепче первой. Земные дороги полюбились ему еще больше. Особливо те, что ведут на Север. Климовский узнал, что у севера тоже есть притяженье и оно ничуть не слабее, чем океаническое. Впрочем, если ты идешь по белой пустыне и ветер бросает тебе в лицо снежную пыль, то пространство напоминает штормовое море, а сам ты – как корабль среди волн. И еще одно ни с чем не сравнимое чувство дает человеку Север – каждый впервые вступивший на эту землю ощущает себя первопроходцем. Нет ничего прекрасней, чем знать – ты торишь путь для тех, кто пойдет за тобой, ты открываешь неизведанное. И пусть подстерегают тебя опасности, пусть ждут впереди немалые трудности, ты все сможешь преодолеть, если движет тобой высокая цель служения людям…
Путешествие тем хорошо, что у человека в дороге много времени подумать обо всем. Конечно, оставшись наедине с дикой природой, он прежде всего занят мыслями о сущем: об еде, об устройстве ночлега. Но величие и красота окружающего мира не могут не навевать раздумий о вечном, о смысле бытия, о собственном предназначении.
В чем это предназначение? Андрей для себя решил давно. Надо быть самим собой, поступать так, как подсказывает тебе сердце, стараться никому не делать зла. И еще – надо побольше узнать о земле, на которой ты вырос. Узнать, чтобы рассказать другим, чтобы сделать жизнь на земле лучше. Ради этого, на самом деле, стоит жить!
…Мартовский снег, покрытый коркой наледи, тяжело проваливался под полозьями. Климовский и два индейца-проводника на трех собачьих упряжках медленно пересекали холмистую равнину, покрытую островками темного леса. Солнце, слепя глаза, катилось навстречу путникам, высоко, по-весеннему, прокладывая свою тропу в поднебесье.
Пушкин умирал.
Вторые сутки он лежал на кушетке в своем кабинете, в окружении тех, кого любил – друзей и книг. Страдая от раны, он окидывал взглядом окружавших его Жуковского, Тургенева, Данзаса, докторов Даля, Арендта, Спасского, переводил глаза на книжные шкафы с золочеными переплетами, словно говоря: «Прощайте, дорогие мои…»
Он чувствовал, что смерть близка, но мужественно вытерпел зондирование раны.
– Что, плохо со мною? – силясь улыбнуться, спросил у Арендта.
– Должен вам сказать, что к выздоровлению вашему надежды почти не имею… – честно ответил доктор. Отойдя от постели поэта, он шепотом сказал Жуковскому:
– Я был в тридцати сражениях, видел много умирающих, но такое терпение при таких страданиях…
Диагноз, поставленный медицинским консилиумом, был страшным: «Ранение, проникающее в брюшную полость, слепое, без пенетрирующего ранения кишки, но с нарушением целостности крупной вены».
– Зачем вы уменьшили заряд пороха? – вопрошали доктора и без того подавленного Данзаса. – Будь заряд полным, пуля пробила бы тело Александра Сергеевича насквозь, а не отрикошетила бы в живот от кости таза…