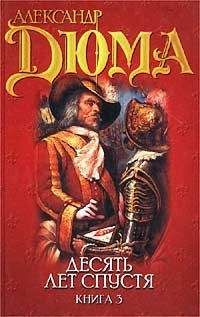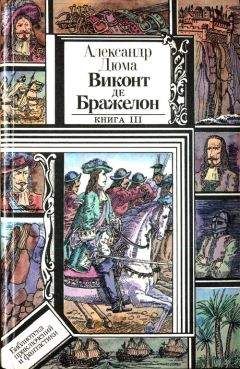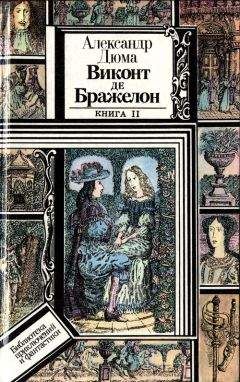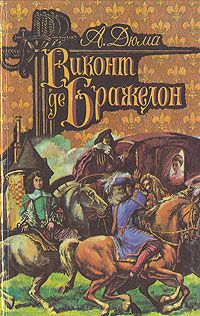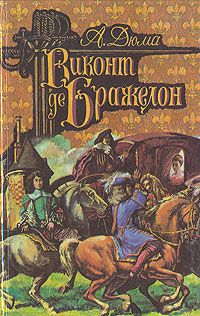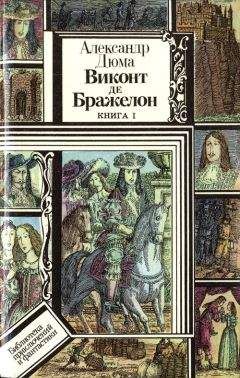И с этого момента, слившись в одно целое со своей лошадью, как настоящий кентавр, Д'Артаньян не занимал больше своих мыслей ничем, то есть, иначе говоря, думал обо всем понемногу.
Он спросил себя, по какой причине король вызвал его; он задал себе также вопрос, почему Железная. Маска бросил блюдо к ногам Рауля.
Что касается первого из этих вопросов, то ответить на него удовлетворительным образом Д'Артаньян оказался не в состоянии. Он достаточно хорошо знал, что король, вызывая его, делает это потому, что нуждается в нем; он знал, что Людовик XIV испытывает крайнюю необходимость в беседе с глазу на глаз с тем, кого знание столь важной государственной тайны поставило в один ряд с наиболее могущественными вельможами королевства.
Но установить в точности, что именно побудило короля к этому шагу, он все же не мог.
Мушкетер не в меньшей степени понимал, какая причина заставила несчастного Филиппа открыть, кто он такой и что он королевского рода. Филипп, навсегда погребенный под своею железною маской, удаленный в края, где люди, казалось, были рабами стихий; Филипп, лишенный даже общества д'Артаньяна, относившегося к нему предупредительно и с почтительностью; понимая, что в этом мире на его долю остаются лишь призрачные мечты и страдания, да еще отчаянье, начинавшее жестоко мучить его, – излился в жалобах и стенаниях, рассчитывая, что если он откроет свою ужасную тайну, то, быть может, явится мститель, который вступится за него.
Вспоминая о том, что он едва не убил своих ближайших друзей, о судьбе, столь причудливым образом столкнувшей Атоса с государственной тайной, о прощании с бедным Раулем, о смутном будущем, которое его ожидает и которое поведет его к ужасной и неминуемой гибели, Д'Артаньян мало-помалу возвратился к своим печальным предчувствиям, и даже быстрая скачка не могла отвлечь его, как бывало, от этих грустных мыслей.
Потом Д'Артаньян перешел к думам о Портосе и Арамисе, объявленным вне закона. Он видел их беглецами, которых травят, словно дичь, окончательно разоренными, их, упорно созидавших себе состояние, а теперь вынужденных потерять все до гроша. И поскольку король вызывал его, исполнителя своей воли, еще не остыв от гнева и пылая жаждой мщения, Д'Артаньян содрогался при мысли о том, что его, быть может, ждет поручение, которое заставит кровоточить его сердце.
Порой, когда дорога шла в гору и запыхавшаяся лошадь, раздувая ноздри и подбирая бока, переходила на шаг, Д'Артаньян, располагая большей возможностью сосредоточиться, принимался думать о поразительном гении Арамиса, гении хитрости и интриги, – воспитанном Фрондой и гражданской войной. Солдат, священник и дипломат, любезный, жадный и хитрый, Арамис никогда в своей жизни не творил ничего хорошего без того, чтобы не смотреть на это хорошее как на ступеньку, которая поможет ему подняться еще выше. Благородный ум, благородное, хотя, быть может, и не безупречное сердце, Арамис творил зло лишь затем, чтобы добавить себе еще чуточку блеска. В конце своего жизненного пути, в момент, когда он достиг, казалось, поставленной цели, он сделал так же, как – знаменитый Фиаско, свой ложный шаг на палубе корабля и погиб в морской пучине.
Но Портос, этот добряк и толстяк Портос! Видеть Портоса в позоре, видеть Мушкетона без золотых галунов, быть может, запертым в тюрьму; видеть, как Пьерфон, Брасье будут сровнены с землей, как будут осквернены их чудесные мачтовые леса, и это также причиняло терзания д'Артаньяну, и всякий раз, как его поражала какая-нибудь тягостная мысль этого рода, он вздрагивал, как вздрагивал его конь, когда ощущал укус слепня, двигаясь под сводами густого леса.
Умный человек никогда не томится, если тело его преодолевает усталость; здоровый человек никогда не находит жизнь тяжелой, если ум его чем-нибудь занят. Так д'Артаньян, все время в седле, все время предаваясь своим размышлениям, добрался до Парижа свежий и бодрый, точно атлет, подготовивший себя к состязанию.
Король так скоро не ждал его и только что уехал охотиться куда-то к Meдону. Д'Артаньян, вместо того чтобы пуститься вдогонку, как он поступил бы в прежние времена, велел стащить с себя сапоги, разделся и вымылся, отложив свидание с королем до приезда его величества, усталого и запыленного. В течение пяти часов ожидания он, как говорится, принюхивался к дворцовому воздуху и запасался надежной броней против всех неожиданностей неприятного свойства.
Он узнал, что последние две недели король неизменно мрачен, что королева-мать больна и крайне подавлена, что принц, брат короля, стал набожным, что принцесса Генриетта очень расстроена и что де Гиш отправился в одно из своих поместий.
Еще он узнал, что Кольбер сияет, а Фуке каждый день советуется о своем здоровье с новым врачом, но болезнь его, однако, не из числа тех, которые исцеляют врачи, и она может уступить лишь политическому врачу, если можно так выразиться.
Король, как сказали д'Артаньяну, был чрезвычайно любезен с Фуке и ни на шаг не отпускал его от себя; но суперинтендант, пораженный в самое сердце, подобно дереву, в котором завелся червь, погибал, несмотря на королевские милости, это животворное солнце придворных деревьев.
Д'Артаньян также узнал, что король больше не может прожить ни минуты без Лавальер и что если он не берет ее с собой на охоту, то по несколько раз в день сочиняет для нее письма, и уже не в стихах, но, что гораздо хуже, чистейшею прозой, и притом на многих страницах.
Вот почему случалось, что «первый в мире король», как выражались поэты, его современники, сходил «с несравненным пылом» с коня и, положив лист бумаги на шляпу, исписывал его нежными фразами, которые де Сент-Эньян, его несменяемый адъютант, отвозил Лавальер, рискуя загнать лошадей.
А в это время фазаны и лани, за которыми никто не охотился, разлетались и разбегались в разные стороны, и искусство охоты при королевском дворе Франции рисковало совсем захиреть.
Д'Артаньян вспомнил о просьбе бедняжки Рауля и о том безнадежном письме, которое он написал женщине, жившей в вечных надеждах. Так как капитан любил философствовать, он решил воспользоваться отсутствием короля, чтобы побеседовать несколько минут с Лавальер.
Это оказалось делом весьма простым: пока король был на охоте, Луиза прогуливалась в обществе нескольких дам по одной из галерей Пале-Рояля, как раз там, где капитану мушкетеров нужно было проверить охрану. Д'Артаньян был убежден, что, если ему удастся завести с Луизой разговор о Рауле, у него будет повод написать бедному изгнаннику что-нибудь приятное его сердцу, а он знал, что надежда или хотя бы слова утешения в том состоянии, в каком находился Рауль, были бы солнцем, были бы жизнью для двух людей, столь дорогих нашему капитану.
Итак, он направился прямо туда, где рассчитывал встретить Лавальер.
Он нашел ее в многолюдном обществе. При всем том, что она была одинока, ей расточали столько же, как королеве, если только не больше, знаков внимания, которыми так гордилась принцесса Генриетта в те времена, когда король не отрывал от нее своих взоров и побуждал тем самым и придворных не сводить с нее глаз.
Д'Артаньян, хотя и не был дамским угодником, все же встречал со стороны женщин лишь ласковый и любезный прием; он был учтив, как подобает настоящему храбрецу, и его страшная репутация доставляла ему дружбу мужчин и восхищение женщин.
Увидев капитана, придворные дамы засыпали его приветствиями и вопросами. Началось с вопросов: где он был, куда ездил, почему так давно не гарцевал на своем чудесном коне под балконом его величества, вызывая восторг любопытных?
Д'Артаньян ответил, что только что возвратился из страны апельсинов.
Дамы рассмеялись. В те времена путешествовали все, но путешествие за сто лье нередко бывало проблемою, решение которой откладывали до самой смерти.
– Из страны апельсинов? – повторила мадемуазель де Тонне-Шарант. – Из Испании?
– Нет, не то, – сказал Д'Артаньян.
– С Мальты? – вставила Монтале.
– Честное слово, сударыня, вы приближаетесь.
– С какого-нибудь острова? – спросила Лавальер.
– Сударыня, не хочу вас дольше томить, я приехал из тех краев, откуда в настоящий момент господин де Бофор грузится на суда, чтобы перебраться в Алжир.
– Вы видели армию? И флот? – поинтересовались несколько воинственных дам.
– Все видел.
– Есть ли там наши друзья? – задала вопрос мадемуазель де Тонне-Шарант холодным, но рассчитанным на привлечение общего внимания тоном.
– Да, – отвечал Д'Артаньян, – там де Ла Гилотьер, де Муши, де Бражелон.
Лавальер побледнела.
– Господин Бражелон? – воскликнула коварная Атенаис. – Как! Он отправился на войну?..
Монтале наступила ей на ногу, но это никак не подействовало.
– Знаете ли вы мою мысль? – продолжала ода безжалостно. – Мне кажется, что мужчины, уехавшие на эту войну – незадачливые влюбленные, ищущие у черных женщин утешения от жестокостей белых.