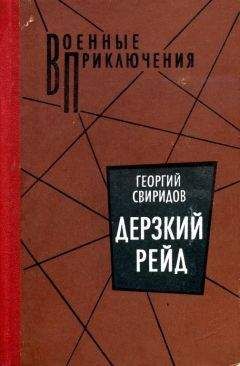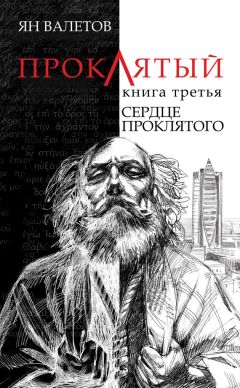И все ж Малыхин нашел, за что зацепиться. Кирвязов — о том Валентин несколько раз спрашивал по-разному — утверждал одно: он первым вошел к радисту в форте Александровский, а там уже находился Груля. Малыхин ухватился за эти слова. Он знал наизусть рассказы свидетелей-бойцов: в радиостанцию первым вошел Звонарев, и в него стрелял моряк, уже убивший радиста…
Опять задачка с одним неизвестным… Впрочем, в суматохе боя трудно запомнить, кто за кем бежал. Надо, наконец, поговорить и с самим Звонаревым. Уж больно он чистоплюем оказался. Все ножичком под ногтями ковыряет. И рожа холеная. А главное — с Кирвязовым якшается.
Малыхин лежал на куске кошмы, ковыряя в зубах. Еще днем он загодя настругивал себе зубочистки. Проклятая баранина застревала у него меж зубов и набивалась в дупла. Мучение сплошное. Мясо вареное так ему опротивело, что дальше некуда. С какой охотой похлебал бы наваристого матросского борщика да выдул бы дюжину кружек компота!
Темнота в степи наступала быстро. Едва тусклый красный шар солнца тонул за горизонтом, после коротких сумерек приходила ночь. Густая и душная, словно тебя накрыли с головой медвежьим тулупом. Дыхнуть нечем. Постепенно стихал обычный гомон, бойцы, утомленные дневным переходом и зноем, засыпали быстро. Коноводы отводили лошадей, отпускали пастись верблюдов. Только караульные бодрствовали у тлеющих костров.
Вдруг зашуршала галька, послышались чьи-то шаги. Валентин повернул голову и в темноте, при бледном свете звезд сразу опознал знакомый силуэт. Среди спящих красноармейцев, осторожно выбирая дорогу, шел комиссар.
«Тоже беспокойства полная голова, — подумал уважительно о нем Малыхин. — И ночью отдыха нет».
Колотубин подошел к начальнику особого отдела и присел на корточки:
— Не спишь?
— Вроде еще нет.
— Подвинься.
Степан лег рядом. Поговорили шепотом о том о сем, о всяких мелких обыденных делах насущных, каких всегда полно в походе.
Малыхин хотел было вновь поделиться своими думами, но не стал: ведь задачку он пока так и не решил. Зачем наводить тень на московского чекиста и бойца-партийца. Свернули самокрутки. Покурили. Потом Колотубин положил свою крепкую ладонь на плечи Малыхину и сказал тихо, в самое ухо:
— Ты сейчас дрыхни до середины ночи, а потом меня сменишь.
Малыхин удивился: откуда тому известно про ночные дежурства? Комиссар как будто в самую душу заглянул и все там вычитал. Валентин даже словом ему о том никогда не намекал. И он нарочно, словно не понимает, о чем идет речь, спросил:
— Ты, Степан, к чему это?
— Не прикидывайся, насквозь вижу. Хватит одному лямку тянуть, дело общее у нас.
— А ты откуда все взял?
— По глазам твоим, чертяка, за версту видно, что ночи не спишь. Круги синие легли, вроде бы тебе фонарь подвесили.
— Всевидящий ты, как святой, — улыбнулся Малыхин, и на душе у него стало тепло.
— Ладно, ладно, дрыхни. После середины ночи разбужу.
Валентин с удовольствием закрыл глаза, впервые за неделю представился случай по-настоящему вздремнуть. Правда, он спал, вернее будет сказать, пытался приучить себя спать на тряской повозке днем, но от такого спанья только башка становилась чугунной и гудела, как колокол, и нудно ныло тело.
— Спасибо, братишка…
И Малыхин, едва опустил веки, сразу уснул, погрузившись в теплую и ласковую нежность.
«Отключился в момент, — сочувственно подумал о нем Колотубин. — Вымотался крепко, видать, на одних нерпах держался. Спи, друг, спи… Нам с Джангильдиновым тоже не сладко даются каждые сутки, но мы с ним по очереди успеваем подрыхать».
Колотубин лежал на боку и ощущал, как от земли шла теплота, словно зимою от разогретой лежанки. Над головою тихо мерцали огромные, необычно яркие звезды. Он никак к ним не мог привыкнуть, хотя уже какую неделю идут пустыней. Все кажется, что звезды нарочно спускаются над степью и на своем мигающем языке, пока еще непонятном, но чем-то похожем на телеграфные тире и точки, разговаривают с Землей. На каторге, в Сибири, Степан слушал многих ученых-революционеров. Один даже, помнится, как-то повел разговор об иных мирах, о жизни на других планетах.
Степан смотрел на звездное небо, на светлую полосу Млечного Пути, всю утыканную малюсенькими, как острие иголки, светящимися точками, и думал-гадал, где же там в пространстве, на какой звезде есть человеческая жизнь. Он выискивал звезды неяркие, бледные, потому что на ярких звездах никакой жизни быть не может, там сплошное огненное море, как в доменной печи, где клокочет расплавленный металл.
Вдруг сбоку, чуть в стороне, где стояли арбы и повозки, раздался крик человека, потом грохотнули один за другим два выстрела.
Колотубин рывком вскочил на ноги ж, расстегивая деревянную кобуру, пригнувшись, побежал на выстрелы. Впереди него большими скачками, с винтовкой наперевес, мчался Чокан. Лагерь пришел в движение. Бойцы вскакивали, сонные и злые, яростно щелкали затворами.
Малыхин сначала не понял, что произошло, не мог сразу скинуть цепкую пелену сна, здорового и крепкого. Но через секунду уже овладел собой и с наганом в руке бежал к темнеющим повозкам, чертыхаясь и матерясь. За все время один раз прикорнул, и — на тебе! — самое главное произошло без него.
Там уже была толпа. Оттуда слышалось:
— Задержали переодетого беляка!
— Одного ухлопали!
— Двоих задержали!
Когда Малыхин, работая плечами, протолкался в тесный круг, то увидал Колотубина и белесого красноармейца с американской фамилией, которого нашли в песках вместе с туркменом Мурадом. Тот, мешая русские и английские слова, быстро говорил комиссару, размахивая руками, как бы показывая:
— Они сволочь! Два сволочь! Я их бил по-боксерски…
Одиноко вспыхивали спички, зажженные красноармейцами, и при их неярком свете Малыхин увидел на земле распростертых Кирвязова и Звонарева. При виде Кирвязова у Валентина как-то стало легче на сердце: «Попался, голубчик!» Но вот Иван Звонарев… Опять он с Кирвязовым! Видно, не случайно.
— Это нокаут, — пояснил Джэксон. — Понимаешь, боксерский нокаут.
— Ты их убил?
— Зачем убивать? Боксерский нокаут, понимаешь? Удар — бах! — и голова совсем пьяный… Два сволочь, белый гад! — возбужденно говорил боксер, связывая поясным ремнем Звонарева. — Вяжите барона.
Принесли пучки сухого боялыча, он вспыхнул ярким пламенем, стало светло. Чокан накинулся на Джэксона:
— Ты что, в своем уме, американский шайтан! Это же чекист. Большой человек! Большой начальник!
— Он враг. Совсем не чекист. Я сам слышал! Сидней говорит правду-матерь, товарищ.